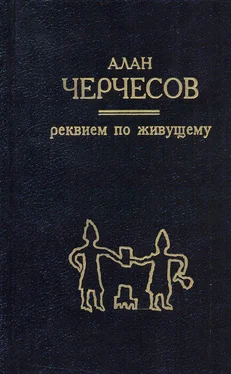Только у него не вышло, говорил отец, опоздал он.
И дальше отец надолго замолкал, сперва эдак вот лысину гладил и сокрушенно цокал языком, а после, словно сдавшись, надевал шапку и каменел, только правая бровь подымалась к самому околышу да продолжали незатейливую возню пальцы на мослатых коленях. Но я и без того уже знал продолжение, хоть до конца той истории у него хватило сил добраться лишь раз, и было это в то утро, когда он, только что оправившись после жестокой хвори (грудь застудил), впервые за несколько недель самолично вынес на дрожащих ногах исхудавшее, тонкое тело свое на скупое весеннее солнце и усадил на застеленный кожей чурбан во дворе, и не сходил с него до самого заката, дважды отказавшись от еды — сперва от завтрака, а потом, как солнце сверху тепло уронило,— и от обеда, и не пустил в хадзар меня, сердито пояснив: натощак, мол, лучше поймешь. Пустой желудок голове не помеха. И рассказал про то, как пришли они и на обе поминальные субботы, и про то, что в лицах их теперь было куда меньше отрешенности и куда больше почтения, больше, чем даже на похоронах, и что никто уже не боялся их разбудить, и коли почти ни о чем не выспрашивали — так потому лишь, что неизменно встречали в ответ тягучую широкую ухмылку и быстрый поток чужой гортанной речи, разбавляемой изредка русскими «да», «нет» и «спасибо», и выходило все как-то слишком уж невпопад, слишком уж глупо, будто разговаривали не просто на разных языках, но и совсем о разном, и будто те, белги, были еще вдобавок глухими, так что очень скоро беседа стопорилась неловкими кивками и долгими пожатиями рук, и казалось, смысл ее сводился лишь к тому, чтобы под самый конец заимствовать у них широкие и жидкие — одними губами — ухмылки да застенчиво уступить черед кому другому, если таковой в толпе вдруг сыщется.
А потом их увидели на сороковой день, а уже на сорок первый Барысби, поднявшись на нихас, кинул нашим сладкую свою приманку и сказал: «Десять суток вам на прикидку. Десяти суток достаточно. А кто не уложится — пеняй на себя».
И уже тем же вечером следили аульчане, как входит в его калитку Агуз, а следом за ним поспешает и старший сын его с нехитрой заплечной сумой Да пресным румянцем на выбритых гладко щеках. А наутро у той же калитки сталкиваются лоб в лоб Дахцыко и Ахшар, и даже с нихаса заметно, как ищут они под ногами достойные правды слова, как вместо них отыскивают лишь повод разминуться на тесной аульной улочке, как расходятся вновь по домам и как шагают по ней в разные стороны, умоляя себя не оглядываться. А дед мой веселится, весело потирает руки и весело посмеивается (и в смехе том столько веселья, что отцу стыдно ему в глаза смотреть — как бы не поперхнулся старик весельем от своего усердия), и говорит веселым от злости голосом: «Две улитки орла не поделили. Хе-хе! Не поделили одного орла! Видно, невмоготу им больше на горбу свой скарб волочить, истосковались по кривому клюву». А отец думает: погоди, небось, и тебя прихватит. И тут он, конечно, прав, но не совсем: на уме у деда не только злоба да веселье, и пока аульчане загибают в счете пальцы, дед мой терпеливо ждет, сохраняя степенность и обмысливая снова и снова то, что уже не раз им решено и обмыслено, но еще не высказано вслух, и тужится обмыслить то, что без него уже обмыслено другим, да так, чтобы для всех остаться тайной. И когда счет переходит с одной руки на другую, старый хитрец подзывает отца и велит запрячь повозку, и, стало быть, теперь у них набирается ровно четыре дня — два туда и два обратно — да еще ночь про запас,— так, на всякий случай. И все, что от отца требуется, это управиться в срок и нарисовать неуклюжий крестик на клочке бумаги. Все, что от него требуется, это не оплошать и поспеть вовремя (тоже на всякии случай, потому как ни он, ни дед мой особо не верят, что всё решают десять дней. Неужто и впрямь какие-то лишние сутки обесценят то самое кинжальное серебро, которому целый год суждено только дорожать да прибавлять в весе своем) . Все, что требуется от него, это съездить и вернуться, чего же проще! Ведь про дождь они не знают... Откуда ж им знать про него! И откуда им знать, что за тем дождем стоит...
Но как бы то ни было, а к полудню на десятые сутки (до Синей тропы еще с полдюжины верст, а бурка, поделенная на двоих, промокла насквозь, и они сидят в повозке плечом к плечу — два человека, которым-то и поговорить не о чем да и, по сути, не на чем, разве что на пальцах да ломаном плюгавом языке, усеченном до нескольких выражений и пары десятков взаимно угадываемых слов,— и отец мой, скромно угостившийся разок-другой из длинной фляги напарника, малость под хмельком и благодушно рассуждает про себя: и на что ему эти стекляшки? Вон как накачался... Для него, поди, сейчас что нос, что глаза — один черт. Поди, туман только и различают) дорогу развезло порядком, и кое-где им приходится спрыгивать наземь и помогать кобыле, и всякий раз отец заботливо проверяет, как лежит на бортах отсыревшая парусина, а попутчик его сперва раздраженно, а потом уже лениво и равнодушно машет рукой: брось, мол, нет нужды. А за пару верст до цели, у Топкого ручья, попутчик затягивает тоненько тоскливую нестройную мелодию, и она стелется из-под стекляшек у него по щекам ясными блестящими полосками, так что отцу делается враз неуютно, и, пожалуй, он даже немного растерян и невольно придерживает поводья, но тут на выручку ему приходит гром, и кобыла, дернув с испугу вперед, опрокидывает попутчика на спину, и тот, скользнув по парусине, скатывается сзади в грязь, и пока отец борется с лошадью, тот сидит в луже и шарит по ней ладонью, а потом, выбрав из жирной мути очки, полоскает их в грязной воде, водружает на нос, лезет за пазуху, достает оттуда флягу, чтобы вылить в рот последние капли, а после, аккуратно завинтив колпачок, прячет ее обратно и, встретив изумленный отцовский взгляд, принимается хохотать, и хохочет так пряно и заразительно, что вскоре и у отца от смеха сводит челюсти. А потом, спустя несколько сытых дождем мгновений, попутчик встает и, раскинув руки, обращает к небу лицо и кричит: «Славно-то как!.. Вот это славно так славно!..» И покушается объять сочную безмерность влаги, но позже, запретно не сладив с открывшейся под ложечкой жаждой, припадает коленями к расшитому пузырями ручью и месит его кулаками, захлебываясь хохотом и брызгами, а отец, потеряв всякий стыд, отпустив с лица гордость и морщины, глядит на это безумие слезящимися глазами и с болью подминает ребрами просторный плеск радости в груди и подвывает ей осипшим горлом, растекаясь сердцем в обильном стоне счастья, шепелявит: «Шлавно!.. Ага... Дождь, вода — много-много шлавно!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу