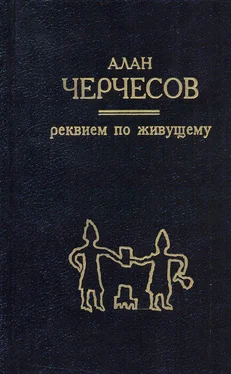И он сказал: «Прости. От страха это». А я подумал: противно и слушать, и, не сдержавшись, ответил: «Врешь. Никакого в тебе страха нету. И никакого неба ты не боишься. Только и хочешь, что Других запугать». А он опять мотнул головой, да так, что подкосились колени и спина вниз поползла, но упасть — не упал: затылком за забор зацепился и, силясь подняться, громко потребовал: «Подсоби!» А после, как отдышался, свирепо на меня уставился, и я уже было решил: сейчас вот заорет, и я его УДарю. Но у него только в глотке клокотнуло, а наружу не вырвалось, мне даже досадно сделалось. И он сказал: «Хорошо. Забудь. Видать, ни к чему тебе мозгами мучиться. Не твой это удел». А я стиснул зубы и подумал: сколько же можно сносить? Драки хочет, того и добивается. А кроме меня ему и подраться-то не с кем. «По лезвию кинжала ходишь,— говорю.— А ноги заплетаются. Как бы не порезался»,— говорю. И он кивнул: «Да, негоже это. На трусость смахивает».— «То-то и оно,— говорю.— Мужчине задаваться ни к чему. Лучше уж араку хлестать».— «Точно,— говорит.— Пойду-ка я домой. Угу. А ты оставайся. Может, что и прознаешь. С меня сегодня толку мало. Что-то я совсем запутался. И даже не совладаю разобрать, то ли он их корит, то ли убеждает в чем. Со стороны не понять». И наконец оглянулся и я, и покосился на них краем глаза, но слова Барысби ветер жевал, а речь тех двоих и вблизи-то была гладкой, что твоя галька влажная, ступишь рядом — и оскользнуться не мудрено, чего уж там с десяти шагов распознать надеяться! Но ведь глазам смотреть не запретишь, особенно когда им есть на что смотреть. Да, говорил отец, теперь и я заподозрил, потому как вместо двух увидел три пятна, три бледных лика, и были они как три отражения, три отпечатка с одной и той же длани, отринувшей всех нас на сорок дней вперед, чтобы спустя те сорок дней принять все ценности и деньги аульчан,— в обмен на нашу неудачу, в обмен на преступление, которого никто из нас не совершал, но за которое заранее рукой моей была дана расписка — поставлен хилый крест в углу листа, в железном несгораемом шкафу припрятанного за много верст отсюда.
Да, говорил отец, тогда я тоже заподозрил, но не желал поверить и не мог понять, и не мог понять твой дед, расспрашивавший поздним вечером меня про белгов, Барысби и Одинокого и озадаченно внимавший моему рассказу, а уж с ним, дедом твоим, я тягаться не осмеливался. И, помню, ночью я проснулся весь в поту и услыхал его, Одинокого, последние слова, которые он выдохнул перед уходом мне в затылок: «Ханджери умер. А мы пытаемся не видеть неба, что говорит нам: мы закончились, и дальше жить нам новым...» И долго размышлял над ними, будто учуяв в них предсказание, а после, намаявшись, заставлял себя их забыть — до самого рассвета заставлял.
И потом весь день мы их, белгов, не видели, а назавтра, ведомый племянником под руку, пришел слепой Сослан, и у смертного одра Ханджери спел ему под фандыр последнюю песню — ту, про ветер и слезы из речного песка, про скорбящих богов и согревшую солнце горячую душу, про старого друга, что отправился на небо искать его дочь, чтоб заменить ей на время живого покамест отца. И, слушая ее, дед твой рыдал, как женщина, а женщины заходились от плача, как от боли кричащие дети. Да что о том говорить — ты ведь и сам ее не раз слыхал.
Ну а на похороны они, те двое, явились, и теперь все было внешне пристойно и благородно даже: смотри-ка, рассуждали мы, вроде чужаки, а законы наши чтут. Однако на застолье траурном они не засиделись, и, конечно, неволить их не стали, не решились просто: лица их не позволили. А Одинокий, весь день с них глаз не спускавший, шепнул мне на ухо: «Нечисто тут что-то. Они с ним даже не перемолвились». И я подумал: видать, и на старуху бывает проруха. И подумал: стало быть, и вправду капля камень точит, ежели и этот на нас похож становится. И сказал: «Лучше рог осуши, а не то мозги свои высушишь». И он ответил: «Вот где твоя ошибка». И я спросил: «Где?» А он тихо так, вкрадчиво: «Под папахой. Сам себя обмануть норовишь и рад-радешенек, когда удастся. Здорово, поди, когда всё под шапкой умещается, а? Да вот беда: по ночам ее снимать нужно. А там и дурные сны поспевают, верно?» Потом, как ни в чем не бывало, встал и тост за упокой души произнес, а после сел опять на скамью и сказал мне одними губами: «Пока что не столковались. Их цена не устроила. Но Барысби спешить некуда. Он их измором возьмет». И я ответил: «Коли такой умный, отчего, же сам не продашь или не купишь?» — «А оттого, что не знаю еще, на чем у них сделка замешана,— говорит.— Да кабы и знал, на кой оно мне сдалось?» А я и говорю: «Коли такой богатый, чего же о них так печешься?» — «Не о них,— говорит.— О нас... Да ты пей, не бери в голову. Ежели что разведаю — с первым с тобой поделюсь».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу