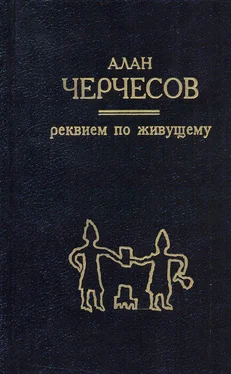Ну а потом с открытыми еще глазами ощутит, что белая, серебряная пустота, возникшая из этого мгновения, легко и быстро растворяет память, и, прежде чем закрыть глаза, покладисто подумает о грязи: «Должно быть, вкусная она...». А когда очнется и снова поднимет веки, увидит над собой дождем сочащееся небо и станет искать глазами свои руки, укрытые щебенкой и толстым, надежным слоем боли, а потом примется сгребать ими с груди рыхлый каменный бешмет, сперва неловко и медленно, а затем быстрей и быстрей, в какой-то судорожной торопливости, будто боясь не поспеть за возвращающимся из небытия сознаньем, а как вернет себе ноги и вспомнит три пятна, кинется прочь от обрыва и возьмется карабкаться по уцелевшему боку искореженного утеса, и не обернется до тех пор, пока не протиснется в узкий прищур какой-то расселины, а там прижмется животом к сухому дну и вновь уловит носом чудной запах жженой каменной пыли, и, подавившись, скажет сам себе: «Так не пойдет. Тут мне не выдержать. Передохну чуток и дальше двинусь. Вот только дух переведу».
А покуда примется следить за тем, как обживает туман суета внизу, и разглядит в ней сперва Ахшаровых сыновей, потом Дзантемра и Пигу, а после и собственного брата, бегущего по шаткому деревянному мосту за лохматыми и шустрыми буграми, в которых он, отец, признает Агузовых псов и скучно подумает: «Даст бог, вверху искать не станут. Да и дождь еще не истек. Течь ему еще долго». А спустя хмельную дрожь в ногах подумает: «Лишь бы старик не прознал. Брат-то ни по что не догадается. Нет, вверху они искать не будут. Разумом не сподобятся». А потом еще подумает: «Ишь ты, вон ведь как: мельницу на реке подчистую срезало. Нет на реке больше мельницы». И тихо зацокает языком, словно все остальное ему только пригрезилось и никакой тройной смерти — ни кобылы, ни попутчика, ни его самого (если, конечно, он погиб вместе с ними, заодно с повозкой, поклажей и надеждой, запряженной в нее два дня назад) — не было и в помине. А может, все как раз наоборот, и он глядит в туман из поднебесного посторонья на правах оторвавшейся от бренного тела души?
Но как бы то ни было, а снесенная обвалом мельница занимает почему-то его мысли куда больше, чем собственная смерть или пережитый кошмар, и, должно быть, поэтому размышлять о мельнице ему пригоже и любо, и пока он не знает наверняка, жив или умер, наблюдать за расчищающими завал (в том самом месте, где беснуются в лае собаки) людьми ему вполне еще под силу и даже проще, чем чуять, как обожженный запах пыли впивает из его одежды влагу и насыщает воздух приторной кислятиной, а в глотке у отца смакует горечь заматеревший перегар. «Могу и не смотреть— внушает он себе.— К чему мне оно — смотреть? Вовсе мне ни к чему». Только внушает как-то стороной подспудно, вроде бы и сам не слышит, как внушает. И оттого делается ему совсем не так, как он желает, а как бы даже немного гадливей прежнего. И несколько раз он решает отвернуться, и на минуту прячет взгляд в своих руках, в мокрых своих ладонях (кровь, соображает кто-то за него его же мыслями, но этот кто-то остается безучастен, и мой отец устало повинуется и безразлично принимает эту безучастность скрывающегося от света и дождя в его убежище незнакомца, зачем-то притворившегося им самим), потом отряхивает их и окунает ненадолго в пыль, а после потирает друг о друга, чтобы закрасить мокрое сухим, но безуспешно; повторять приходится еще и еще, пока он не убеждается, что вылепил свои руки заново и что лепка принялась. Вместо голосов он различает лишь картавое покашливание эха и отмечает про себя, мол, это к лучшему: он не услышит старика, а если к тому же уговорит себя туда не глядеть, так и не увидит его мучительных потуг перестоять на ногах последнее свое отречение — от жизни, отданной им на поругание надежде, и от надежды, погребенной громом на пути к его страдальцу-дому, что с утра еще готовился к приему гостей, а теперь вот замер молча в предчувствии нахлынувшего горя.
Только опасения отца напрасны: очень скоро загустевшему в дожде туману удается заляпать серым все ущелье под ним (а может быть, все происходит не так, может, это я сам не умею увидеть иначе, но коли и так — ничего уж тут не поделаешь: выбирать не приходится, красивее меня-то вряд ли вам кто перескажет. А ежели и найдется вдруг мастак правдивей моего насочинять, кто ж поручится, что язык его не приврет того, чего не было, а как было-то мы все одно не узнаем, ибо тут вот у нас — от расселины и Агузовых псов до самой ночи — провал, чернота, пустыня, и отцовы слова в тот единственный раз окончательного его, до края, трудного откровения пустыню ту, будто стыдобу какую иль срам, просто перескочили, ну а мне отчего-то все это тогда и привиделось да так и приладилось к остальному, и коли уж мне суждено по туману брести, так лучше не спотыкаться да самому себя не окорачивать, а то глядишь, глажесть из речи уйдет, а после и не воротишь ее. Для нее-то, как для любого лиха, известно, разгон нужен. А коли так, стало быть, туман в ущелье почти до белого отседел...), и вот уже он зализывает скалам раны, а мой отец время от времени слышит тонкие и жалобные стоны, и за невидимого незнакомца ему делается совестно, однако унизить его замечанием он не считает возможным и потому согласен терпеть; тут выясняется, что главное — не задремать, потому что стоны разом делаются громче и могут выдать их обоих тем, внизу, а этого-то допускать никак нельзя, уж лучше вовсе не закрывать глаза. И вот он занят тем, что их не закрывает и думает о том, как не моргать; потом опять не закрывает и учится не закрывать еще; даже вроде больше не моргает; точно, теперь уже совсем, вот так, как будто вместо глаз — луна и немигающее отражение ее бессонницы; оказывается, ничуть не сложно, удобно даже, рассуждает он во сне в каком-то сладостном оцепенении, а когда опять распахивает веки, по неопрятному желтоватому пару бродят скупые огни, и он с изумлением ищет в них время: «Сумерки. Факелы. А лая почти уж нет. Должно быть, тех уже раскопали. Теперь моя очередь. Только наверх они не сунутся. Да и куда им лезть под самую темень!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу