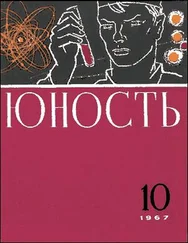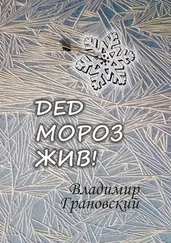Ещё постояв пососав ущербный зуб, я тяжело отваливаюсь от подоконника и стаскиваю вторую штанину.
Взвизгивает раскладушка, но я её уже не слышу. Я сплю.
В семьдесят пятом году я был весёлый человек. Жизнь была прекрасна, дали светлы, и абсолютная истина лежала у меня в бумажнике между рублёвкой на обед и абонементом в бассейн «Комсомолец».
Там мы плескались и орали на всю купальню, подныривали под девчонок и хватали их, холодных и вёртких, за упоительные груди, прыгали в голубую воду с самой маленькой вышки, как со стометровой калифорнийской скалы, и плыли брассом, брассом. Это называлось —группа здоровья.
Потом на обеденный рубль мы пили пиво тут же в буфете и покупали девчонкам пирожные. Пьяные мухи слонялись по столу и откусывали то здесь, то там; глаза девчонок, от хлорки красные, блестели; блестели мокрые, причёсанные волосы, а солнце, от зависти зелёное, ломилось к нам с улицы в маленькое оконце и не влезало и просовывало к нашим янтарным стаканам свои горячие сухие лучи.
В семьдесят пятом году я был весёлый человек. Поэтому ко мне магнитились шизофреники всех мастей, их тогда вокруг было невероятное количество, теперь куда-то подевались: или это мой магнит ослаб, или глаз привык — не знаю.
Приходил сосредоточенный человек, садился рядом и молчал. Я молчать не мог, не умел, если в компании делалось тихо, я считал это бедствием и непременно лез выручать бедствующих: пел, показывал фокусы, рассказывал анекдоты. «Ты отчего такой дурак?» — с состраданием в голосе спросила меня одна особенно притянутая ко мне «сосредоточенная». Я был не дурак, поэтому не обиделся. У нее над переносицей, она рассказывала, была дырка. Дырка была то большой, то маленькой — в зависимости от разных причин — но всегда простому глазу невидимой. Через эту дырку, она считала, в нее влетала «тонкая энергия» и наполняла ей душу. Положительная энергия была жёлтого, красного, зелёного цветов и несла вдохновение к жизни, а отрицательная — чёрная, фиолетовая — это вдохновение глушила. Первая к ней шла от солнца, вторая — от людей. Я ей посоветовал повесить на лоб оранжевый светофильтр от людей. Она выслушала серьёзно и ответила со вздохом, что тогда для неё не будет фиолетового, а фиолетовый — её любимый цвет, она без него жить не может. И поцеловала меня. «Это в смысле, что я фиолетовый?» — «Нет, ты — моё солнышко»...
Еще был врач-хирург. Он, стыдясь, приносил мне свои взятки, и мы их с отвращением пропивали. За полночь медик начинал плакать и бредить некоей страной Мар-меландией, в которой всем шизикам хорошо, и женщины там, когда не против, втыкают себе в волосы цветок и, действительно, против не бывают.
Бредил он захватывающе. Я пару раз пробовал вставить что-нибудь от себя, но мои фантазии против его грёз были бледными — неискренними потому что. Ну в самом деле, какая там Мармеландия, на что она, когда в холодильнике ещё одна бутылка стынет, а на работу завтра можно не ходить?
У него была милая привычка — перед отходом ко сну прятать свои очки. Он их очень берёг, и потому наутро никогда не мог найти. Так и уходил без очков — слепой, мятый, несчастный.
А я покупал пельмени и обнаруживал очки в морозилке.
Если бы я имел достаточно времени, я написал бы о тусовке Петрушина в библиотеке имени Максима Писку-шина, ну той, что на улице всем известного Благодушина. Но не о самом Петрушине, художнике, вздумавшем выставить не свои, а подаренные ему друзьями офорты, литографии, открытки, а также разные штуки, вроде берестяных рогов, латунных копыт и расписных крышек от унитаза, рассказал бы я, хотя и акция его для нашего города необычна, и сам он замечателен своим любвеобилием и беспримерным хамством одновременно: напился после открытия выставки, как зюзя, орал на дирекцию и на всех своих сподвижников орал, гадко сипел под гитару прекрасные песни, широко разевая при этом мокрый, отвратительный, беззубый рот и вздувая жилы на тощей шее — и все это с любовью, посреди любви и под грустные тосты про любовь, — но не о нём и не о гостях его рассказал бы я, хотя была там одна такая леди, из тех, что не встретишь в трамвае — они никуда не ездят, не встретишь в магазине — они никуда не ходят, такие леди, они живут на тусовках, это их среда обитания, вне этой среды они просто не могут существовать — поэтому, когда я начал склонять её к необдуманным поступкам и повёл её к моему другу Сказкину, и мы уже вышли, уже сделали пять шагов, глядь — моей леди уже и нет: и убойный наряд ее поблёк, и сама она как-то потускнела и — растаяла, а я уже про неё и забыл — так что, что писать-то? Еще Громоздило был, скульптор, и жена его —тихая старушка, назвалась Тамарой, швеёй она была всю жизнь: обшивала скульптора и детей его, торговцев красками обшивала, и торговцев холстами, и торговцев молочком маленько, ну а картошку-то уж сама сажала, и как мы пережили тот год — одному Богу известно, зато сам великий Конёнков Тимоше руку жал — и ойкнул: такая у Тимоши рука крепкая. А Тимоша стоит былинно, ни черта не пьёт, и перед ним торговец керамикой в тёмных очках вертится, приседает, локоток трогает — а Тимоша стоит. Ему: кес-ке-се мулине мои плезир эбаут Америкен лайф , — а он стоит,
Читать дальше