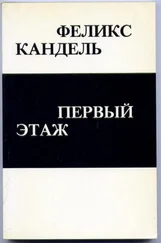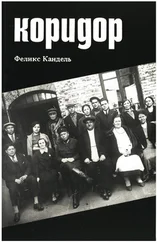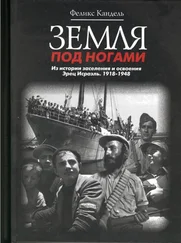…куда-то и от кого-то.
Он не был суетливым, Моня Зильберман, терзания души утишал шевелением плоти, а промежутки заполнял вялым послушанием на работе, пока не нарастало очередное томление, которое следовало приглушить.
– Зильберман, – спрашивали его. – Ты как?
– Недоумеваю, – отвечал Моня, нелюдимый холостяк, который отстаивал свою независимость. Даже в мелочах. В мелочах наша независимость.
Друзей нет – одни знакомые. Врагов тоже нет. Врагов иметь – себя унижать: такие враги нынче пошли.
Вечная вдова Маня вела его хозяйство и по утрам подавала белую рубаху. В белой надолго не сбежишь, воротишься под вечер с грязным воротником.
Он был чистюлей, Моня Зильберман, и Маня это учитывала.
– Зловредная ты старушонка, – отчитывал ее. – Всё-то ей неможется.
– Антипка беспятый, – бурчала без злобы. – Вот ужо позову правнука – он те на раз кончит...
Правнука у Мани не было.
Правнук сгинул еще в Порт-Артуре, его японец на штык насадил.
К отчизне ревностью горя,
За веру мёрли и царя…
Были у Мони и темные рубахи, но Маня порвала их на тряпки. Одну рубаху он припрятал и пропадал порой на пару дней: то ли в подъездах ночевал, то ли на скамейках, но и на новом месте ему хотелось сбежать.
Куда-то и от кого-то.
К ним мы еще вернемся, к Моне и Мане, упомянем только одно.
Моня Зильберман отбрасывал не свою тень. Или тень отбрасывала не его. Что вызывало подозрения и наводило на размышления…
Автор этих строк ехал в такси по московским улицам.
Был поздний вечер.
На улицах темновато, темновато в машине.
Шофер не признал в пассажире его национальной принадлежности, высказывался на еврейскую тему с обстоятельной откровенностью.
– Ты ко мне домой приходи, – говорил. – У меня они на стене наклеены. В сортире, в черных рамочках. Сплошные Изи. Из газеты вырежу – сладость. На толчке сижу – наслаждение.
Приехали.
Автор расплатился, спросил:
– Всех наклеишь, за кого примешься?
Сказал без раздумий, ответ готов издавна:
– Найдем за кого. У нас татары непочатые.
Взревел мотором.
Пропал за углом.
«Деточка, – упрашивала бабушка Хая, – не ругай глухого», а я шагал домой, проговаривал яростно:
– Неужто им ненавидеть больше некого?..
Ходил по комнате – не утихал:
– Не впутывайте меня в свои неудачи. Это вам не поможет…
Вскидывался без сна на постели:
– Можно утомиться от восторга. Злобному не умаяться от злости, от несчётных ее применений…
Тысячи лет моя судьба. Тысячи – ваша. Отчего не устаете, ненавидящие меня? Ненавидящие всех за стеной квартиры, за околицей деревни, за границей своего понимания? Скудоумие неприязни, тупой медный лоб, хмель разрушения в помыслах, – но нет в тебе ответного зла, нет панциря-преграды‚ за которым можно отсидеться.
Сказал таксист-армянин, ночью, на Шаболовке:
– Вы добренькие, евреи. Якшаетесь с немцами. Мы туркам не простим. Никогда…
Давно это было, а, может, не очень…
…какими мерками мерить, – я заболел и болел долго, беспросветно, с одышкой и тупой болью. Лежал в постели‚ боясь шелохнуться‚ но при первом шевелении тяжкая рука укладывалась на сердце‚ комок взмывал кверху, затыкая горло.
И тогда ко мне позвали старого врача. Косматого, кустистого, с лучистыми глазками, похожего на деда-лесовика из дремучих чащоб.
– На что жалуемся, молодой человек?
– Не живется, доктор, ну никак…
Уложил на спину, ощупал и обстукал, оглядел и обнюхал, приник ухом к груди и замер надолго, вслушиваясь с закрытыми глазами.
Его лицо оказалось рядом с моим лицом. Его дыхание было неощутимо. Из носа торчали кустики седых волос. Сеточки мелких морщин напоминали старинный‚ побывавший в долгом употреблении фарфоровый сосуд. Приоткрыл глаз, кольнув лучиком, спросил врасплох:
– В Израиль не собираетесь?
– Собираюсь, – ответил не ему, а самому себе, завершив мучительные колебания. – Я собираюсь…
Всякий предмет находится там, куда он движется.
Человек – там, куда он стремится.
Сентябрь 1973 года.
Прикиньте сами, сколько протоптано с той поры, куда, с кем и зачем.
Мы подали документы на выезд и решили съездить в Армению.
Вечером, на исходе дня Йом-Кипур, узнали по радио, что Египет и Сирия напали на Израиль. Первые новости настораживали, вызывая опасения, и мы просидели до ночи у приемника, перескакивая с «Голоса Америки» на «Би-Би-Си», с «Би-Би-Си» на «Немецкую волну».
Наутро улетели в Ереван, гуляли по его улицам, ездили по окрестным монастырям, но вечерами, в гостинице, включали маленький приемник, сквозь шум и треск слушали «Голос Израиля», прорываясь через заглушки.
Читать дальше
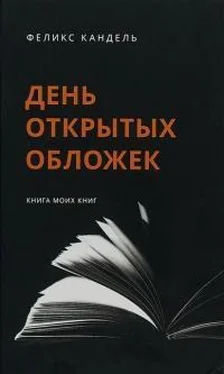
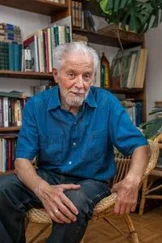

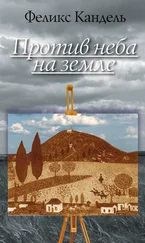
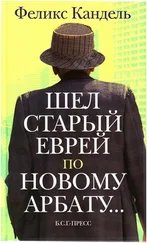
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)