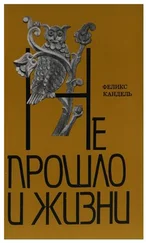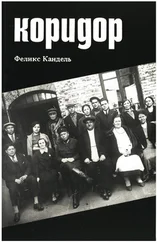Боря проходит теневой стороной улицы на журавлиных ногах. Затертые на заду шорты. Разношенные туфли. Рубаха расстегнута на груди. Боря Кугель – человек заметный.
Вот он шагает. Легко и размашисто. Широко и неспешно. Не шмыгает, не шаркает. Приближается неумолимо, надвигается неотвратимо. Поступь человека, который знает, чего он стоит, – а стоит он немало. Посмотрите в эти глаза, не знающие помутнения. Прислушайтесь к биению сердца, чья мышца сильна и неутомима. Спина прогнута. Ноги упруги. Живот подобран. Походка легка, можно сказать, летуча, подошвам незачем касаться земли. Заговорите – он ответит улыбкой, шуткой, легкой необидной иронией. И не уступайте место в автобусах, не надо, он постоит. А теперь скажите, положа руку на сердце: разве можно предавать земле столь удачный экземпляр, которому доступны воздыхания с возлияниями? Разве это не потеря для мира? И вы признаете со вздохом: потеря, конечно, потеря, которую не восполнить.
Боря останавливается возле банка‚ на стене которого разместилось заманчивое сооружение. Суёт карточку в прорезь‚ набирает заветный номер‚ а оттуда выползают новенькие шелестящие купюры. «Невозможно поверить‚ – восхищается Боря. – Я не привык. Мы не привыкли: платят‚ а могли не заплатить». Не высунется ли рука вслед за деньгами? Пожать и облобызать. Хочется облобызать руку‚ но некому.
А по тротуару передвигается неразлучная пара.
Бывший следователь с трудом переставляет непослушные ноги. Бывший арестант бредет следом‚ неотличимым двойником из сиротского приюта. Холщевые брюки пузырятся на ногах. Сандалии из кожзаменителя хлопают по морщинистым пяткам. Стираные ковбойки с засученными рукавами выдают место прежнего обитания. Ремешки от часов перекрывают запястья: у одного ремешок с компасом‚ у другого с портретом позабытого космонавта.
На шее у арестанта провисает ключ на шнурке, приметой забывчивости.
На лице проступает биография.
Зубы стальные. Щеки проваленные. Морщины иссечены жгучими ветрами. Была война – он воевал, была тюрьма – он сидел. Расшевелить – выдавит из осмоленной махрой, морозами прихваченной гортани:
– Не жалейте меня. Не надо! Бог не поменяет пережитое. И не проси…
Но с едой что делать? С тарелками, наполненными до краев, чтобы после пары ложек отвалиться от стола с резью в животе, взглядывать с мольбой на нетронутое изобилие, которое изголодавшийся не в состоянии потребить.
Встают у витрины‚ бывший следователь и бывший арестант, с виду интересуются товарами‚ но денег нет‚ нет и здоровья в немощи тела. Отдышавшись‚ следователь говорит устало:
– Отстаньте от меня… Кто знал тогда про массовые репрессии?
Арестант белеет от ненависти‚ взмахивает без сил увядшим пучком зелени:
– Этот лук... я буду сажать на твоей могиле...
Боре они знакомы, два неразлучника.
– Как светская жизнь? – спрашивает.
Они не отвечают.
– Марки решил собирать‚ – сообщает Боря. – Цейлона. Мадагаскара. Островов Зеленого мыса.
– Пустое дело‚ – хрипит арестант. – Хорошую коллекцию не собрать. Годы не те.
Задирает рубашку‚ показывая ремень на брюках‚ потертый‚ треснувший и засаленный. Дырки на нем фабричные, нетронутые, и самодельные, гвоздем‚ до самой почти пряжки, ржавой, в прозелень. Если застегнуться на крайнюю дырку, останется слишком много ремня и слишком мало арестанта.
– Лагерный мой ремень. Дырки – зоны. Дырки – этапы. Внуку завещаю, изучать историю по этим дырам.
Бывший следователь возражает по привычке:
– Всё говорят: теперь‚ теперь... И раньше не дураки жили. Хуже делали‚ да лучше было. Вы меня понимаете?
– Я вас понимаю‚ – говорит Боря. – Но я с вами не согласен.
Из сочинения Бори Кугеля «Почеркушки на память».
«Он выходит по утрам на лестницу, проклиная стариковские суставы‚ спускается в подвал‚ открывает ключом малоприметную дверцу.
В руках кружка с водой и пайка хлеба по правилам внутреннего распорядка.
Крохотная камера. По стенам набиты деревянные нары мрачно коричневых тонов‚ которые он сам сколотил, сам выкрасил. Лампочка светит под потолком за проволочной сеткой. Миска стоит на полу. Ведро-параша. Выливает воду в миску‚ кладет рядом хлеб‚ с кряхтением усаживается на нару‚ слабея от усилий.
Валяется в беспорядке на нарах – в пыли‚ духоте – полное собрание сочинений‚ осужденное на бессрочное заключение. Пересчитывает их привычно‚ с задержкой‚ оглядывая тяжелым‚ влагой налитым глазом. Особенно ненавидит том первый‚ биографию со вступлением. И тот, распроклятый, где теория переходит в практику‚ лишь к последней книге испытывая снисхождение, абзац оборван на полуслове.
Читать дальше





![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)