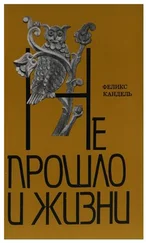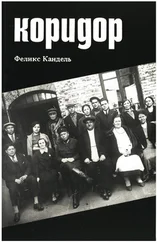Тем обиднее привыкание. Тем оно обиднее.
Гудит сирена к наступлению заключительного дня недели. «Шабат шалом», – приветствуют субботние евреи, меховой штраймл на голове, атласная капота на плечах, черные чулки на ногах; из каких веков явились они, живущие вне времени и пространства? «Шабат шалом», – ответить негромко, затерявшись в обуженных просторах пребывания.
Порой Нюму призывают в армию, облачают в непомерные штаны‚ дают в руки «Узи»‚ и он стоит в оцеплении‚ охраняет ворота на базу‚ раскладывает еду на столах и моет посуду – кухонный мужик Нюма Трахтенберг‚ который тянет солдатскую лямку.
Ночью‚ в горах‚ автомат тяжелит плечо. Ржавая луна всплывает из-за укрытия‚ пугающе великолепная. Трубят ишаки от бедуинских шатров. Шакалы пробегают с ленцой. Нюма служит старательно, с охотой, в свободные часы лежит в душной палатке, ноги просыхают на ветерке от тесноты башмаков. На соседнем матраце непробудно спит Зяма-солдат, умаявшись на армейской службе, которого Нюма изводит вопросами: «Способны ли мы отличить наказание от награды?» Зяма бурчит в дреме: «Малый, затихни…» Нюма не затихает: «Не то гостем пройдем по земле‚ захожим гостем», и озлобившийся сосед, измученный работой чужого ума, вопит: «Мужик! Сбегал бы ты в атаку! Чтоб на раз кончили…»
Нюма на него не обижается, незлобив и податлив в окружении крохотных приятностей. Однажды он попал на стариковский сбор, где бурлил и подскакивал крышкой на закипающем чайнике шумный активист‚ который провел прежнее существование посреди отчетов-заседаний‚ прений-одобрений‚ накопленных поколениями буйных бездельников. «Экологически чистая душа идиота»‚ – определил бы Боря Кугель. «Гройсе гурништ»‚ – определила бы бабушка Хая‚ что в переводе с полузабытого могло бы означать «большое ничтожество»‚ однако «большое» к нему неприменимо‚ «большое» предполагает удаль‚ широту‚ размах; точнее ему подходит – неуёмное.
По окончании вечера активист возгласил: «Намечается мероприятие. Для одиноких выходцев»‚ и Нюма затвердил эти слова. «Биньямин»‚ – окликают на работе. Мимоходом. Просто так. Но Биньямин – он же любимец Всевышнего. Его потомки превозмогали силы зла и отвращали пагубные повеления. «Я не Биньямин‚ – отвечает. – До Биньямина надо еще дорасти. Я Нюма‚ одинокий выходец».
Туча обвисает над городом‚ зацепившись за возвышения‚ моросью омывает камень и неторопливо отчаливает наподобие океанского лайнера. Пыль со стен каплями проливается наземь‚ просачиваясь в глубины почвы‚ чтобы зажить заново заботами земли. Ночь облегает тьмой. Луна на уходе бронзовой чашей‚ пятна по бронзе‚ что по стариковской коже. Луна всё ниже‚ бронза всё тусклее.
В доме напротив тоненько пиликает будильник, пробуждая кого-то, а Нюма еще не пробился в сновидения, зависнув между полом и потолком, голова на подушке‚ наушники на голове. Ночная программа: позвони и выскажись. Он бы и позвонил‚ он бы выговорился‚ но как? – с невозможным акцентом и постыдными его ошибками. Нюма слушает с провалами‚ задремывая и вновь пробуждаясь‚ а ему нашептывают под музыку: «Не спрашивайте меня. Не спрашивайте‚ почему не пою для вас. Осталась позади любовь. Привязанности. Пути обхоженные. Даже песни застолья‚ хмельные, задушевные – они позади...»
Нюму удивили здешние жители, которые поют громко и часто. Причины не вполне ясны‚ и дотошный исследователь мог бы заинтересоваться подобной темой. Про птиц‚ к примеру‚ всё известно: кто поет в клетке‚ кто молчит на воле‚ с людьми тоже можно разобраться.
Сон ушел. На часах ночь. Ветер надувает комнату к полету. А в наушниках новый голос. Прорывающийся с натугой через неподатливый язык. «Там‚ в Африке‚ я полагал‚ что Машиах будет чернокожим. Каким же ему еще быть? Но вот я увидел белых людей, целая страна белых людей‚ и я решил: Машиах будет‚ наверное‚ белокожим. Скажу теперь так: белый или черный, пусть скорее придет. Пусть придет Избавитель...»
На исходе ночи глушит его дремотная усталость…
…и Нюма засыпает с улыбкой на губах, которой не продержаться до рассвета.
Спит Нюма на краю Средиземноморья, посреди неспокойного земного взгорья, в окружении олив, смоковниц, виноградных лоз, и на цыпочках подступают к изголовью сны-утешители, как заманивают в затерянные лесные озера, утягивая замечтавшегося странника в бездонность их глубин.
Сны долгие. Видения легкие. Улыбки – мёдом по губам.
Причудится – призрачным обманом – петушиный призыв по-английски: «Кок-а-дудль-ду!..», словно проснулся на Темзе, в окрестностях Оксфорда. Или призыв по-итальянски: «Чики-ричи, чики-ричи!..», – открыть глаза поутру в Умбрии или Тоскане, посреди сада орехового, сада гранатового. А то и по-японски: «Кокэ-кок-ко, кокэ-кок-ко!..», – углядеть заснеженную Фудзияму, миру раскрыться нараспашку. «О, проснись, проснись! Стань товарищем моим, спящий мотылек!»
Читать дальше





![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)