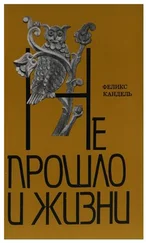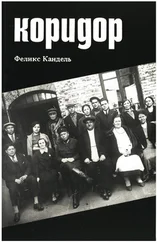За сутки вода высыхает. Хлеб подбирают мыши. Мышам хватает дневной порции‚ и переплеты они не трогают. Лишь сладкие клеевые подтеки, кое-где – трудно удержаться.
– Жалобы есть? – спрашивает.
Жалоб, по обыкновению‚ нет.
– Просьбы есть?
Просьб тоже нет».
Нюма проплакал без слез первые годы…
…и бабушка Хая определила: «Этот ребенок – гвоздик‚ на который вешают страдания. Ему больно оттого‚ что больно другому: хоть тут‚ хоть в Бобруйске. Такое уже бывало. Но такое проходит».
Бабушку укутали в саван‚ белизна которого указывает на отсутствие желаний‚ и понесли хоронить. По весне. При нарождении молодого месяца‚ манившего обещаниями. Бабушки нет нигде и надолго‚ а он бродит вечерами по комнатам, утишая печаль‚ но квартира не становится его собственностью. Приходит хозяин‚ жалуется на дороговизну‚ повышает плату за съём, и Нюма с ним не спорит, Нюма ни с кем не спорит‚ всякого понимая, – кто же поймет его, Нюму Трахтенберга?
Не ищите его среди веселящихся, Нюмы там нет.
Место его среди обеспокоенных.
Нет у него излишков на теле и геркулесовых мышц‚ на Нюму не поглядывают даже разведенные особы. «Эльф. Эльф без крылышек! А с эльфа какая корысть?..» Нюма стесняется своей незначительности в окружении монументальных существ, утешаясь воспоминаниями, как выскакивали среди ночи на кухню‚ жадные и азартные‚ разваливали батон во всю длину‚ заталкивали внутрь содержимое холодильника‚ откусывали с двух сторон‚ ненасытные в намерениях своих‚ и возвращались к нескончаемым баталиям на широченном ложе‚ купленном наперекор моде и насмешкам.
Он возвращался заполночь с дежурства‚ а на кухонном столе ожидал старенький свитер‚ сохнувший на сквозняке. Она беспрерывно штопала свитер‚ штопала и стирала‚ чтобы обтягивал фигуру: было что обтягивать. Свитер раскидывался поперек стола‚ его рукав отдавал честь эмалированной кастрюльке‚ поставленной взамен головы, – не захочешь‚ а улыбнешься.
Он осторожно укладывался рядом‚ а она проговаривала призывно-ласково‚ клала ногу ему на ногу‚ ощущая присутствие Нюмы Трахтенберга. Ранним утром, крадучись, он выскользнул на лестницу, побежал по пустынным улицам. На рынке‚ среди возбужденной толпы‚ возвышался торговец в непомерной кепке‚ сытый‚ бархатистый‚ выходцем с планеты‚ на которой по весне расцветают ранние мимозы.
Возле прилавка бушевали страсти. Мужчины пихались локтями в ежегодном рыцарском усердии‚ и Нюма пихался себе на удивление. Торговец выдергивал из чемодана сплюснутую ветку‚ встряхивал‚ оправляя‚ выкликал орлиным клекотом: «Три рубля... Пять... Восэм...»‚ фаршировал деньгами дамский чулок. С первого взгляда было заметно, что чулок надевали‚ и не раз.
Нюма прибежал домой с веточкой мимозы‚ а на кровати лежала записка‚ написанная второпях на блокнотном оборвыше: «Когда закричишь от радости на нашей кровати‚ значит, с тобой я. Только не ешьте батоны по ночам, буду ревновать!» Она ушла от него в международный день‚ когда женская половина человечества борется за свои права‚ включая неотъемлемое право класть ногу на ту ногу‚ которую они выбирают. Есть в этом глубинная несправедливость‚ ибо отлучили Нюму от ласкового ее призыва, от потаённостей тела, желанных и обласканных, скрытых одеждами от посторонних.
Один получает права, другой их теряет: с тех пор Нюма один.
Крепконогая и крутобокая‚ синеокая и густобровая‚ она снится ему в прежних обликах и соблазнах – не заспать печаль. Он просыпается в ночи возбужденный и растревоженный‚ ощущая ее прежними прикосновениями; в ладонях рук Нюмы Трахтенберга живут тайники ее тела‚ на слуху стоны ее блаженства. Рука тянется на другую половину постели‚ но там прохлада несмятой простыни.
С Нюмой живет муха, верная его сожительница, которая пристраивается рядом пообедать за компанию, в фасеточном ее глазу отражается во множестве друг-кормилец. Имя мухе Зу-зу. Совершенное творение с множеством удивительных органов, запрятанных в крохотном тельце, с недолгим пребыванием на свете, одним из признаков недопустимого расточительства природы.
Поздние назойливые дожди. Вкрадчивое перешептывание листвы за окном. Задувает полуночный ветер, тени вздыбленных ветвей разметывают видения по стенам, перемешивают лица и события.
Плохо одному. Плохо. Плохо!
Еще хуже‚ когда к этому привыкаешь.
Жил в Париже Жан де Лабрюйер, французский моралист. Надоел ему, должно быть, высший свет с его интригами, мир надоел, и записал он такие слова в поучение потомкам: «Все наши беды проистекают от невозможности быть одиноким».
Читать дальше





![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)