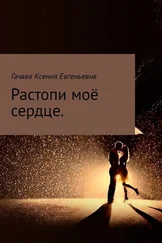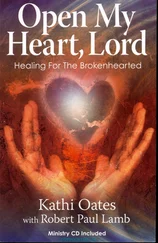— Назовешь меня Черной Половинкой? — безрадостно, с трудом подавив всхлип, интересуется Каллен.
— Черный — необязательно плохой цвет, а белый — необязательно хороший. Все зависит от того, кто им обладает.
— Как думаешь: двадцать пять лет стажа мафиози — достаточный срок, дабы назвать мой черный — плохим? — его голос совсем хриплый, слезы, то и дело сбегающие вниз, становятся все тяжелее. Но самое неприятное, что в тоне нет ни капли сомнений. Постепенно из отчаянного он превращается в ищущий наказания для своего обладателя. Точно знающий, что совершенный поступок оправдания не имеет, и требующий суровой демонстрации справедливости.
— А пять лет заботы о маленьком ангеле, защитить которого понадобилось в четыре раза больше сил, не уравновесят весы? Не сделают черный лучше?
— Чтобы к пяти с половиной уверить ангела в предательстве?.. Да, обязательно.
— Ты же знаешь, зачем все это сказал.
— Легче мне от этого не стало, — Эдвард собственноручно вытирает с лица все слезные дорожки, но очередная порция соленой влаги, словно бы смеясь и издеваясь, прокладывает новые. Не собирается его отпускать.
— А Джерому станет, — убеждено произношу я, убрав ту пару хитрых слезинок у скул, что он пропустил. — Папа спас ему жизнь. В который раз.
Сразу же после этой фразы, будто бы какая-то магия, какое-то колдовское заклинание в ней прозвучало, мужчина пристально на меня смотрит. Так внимательно, так испытующе… будто бы проверяет. Будто бы ищет что-то внутри. Малахиты сияют ярче любых алмазов. Их блеск — и от слез, и от благодарности, и от чего-то ещё, более значимого, более очевидного — адресован мне. Одной мне.
— Фиалка, — шепчет Эдвард, когда из ниоткуда взявшейся рукой, только-только вытиравшей слезы, толкает меня вперед. Не успеваю и глазом моргнуть, как оказываюсь на его коленях. Причем основной вес по расчету приходится именно на правую сторону.
Он дергается, но ни единого звука не издает. Лишь дышит чуть чаще и тяжелее, чем положено, но не так, как могло показаться прежде от подобного зрелища.
— Ты — мой белый, — бормочет он, привлекая меня к себе, — не бросай, пожалуйста…
— Ну что ты? — за миг теряю все те чувства, с которыми недавно с ним говорила, — думаешь, я убегу? Куда, родной? Дай мне встать.
Ему до смерти больно от касаний, я помню. От простых касаний даже пальцами, чуть-чуть поглаживая, а тут…
Но не дает. Держит крепко.
— Позже, хорошо? — дрожит куда сильнее, но очень старается не подавать виду, — позже, Белла…
— А нога?.. — почти отчаянно спрашиваю я.
— Больнее уже не будет, — чуточку оптимизма просачивается в хриплый голос, — тише, сокровище… за это точно не волнуйся.
Вот к чему в итоге мы пришли. Истерика переросла в решимость, пусть и слезную. Видимо, какую-то часть боли он-таки отпустил.
Я сижу, боясь не то что пошевелиться, но даже слишком глубоко вдохнуть. Сижу, хотя знаю, что это последнее, что я должна делать при его приступе. Но раз Эдвард так хочет, раз он так решил, что мне остается?.. Излишним сопротивлением сделаю лишь хуже. Больнее.
— Выслушай меня, — резко выдохнув, просит Каллен. Слишком быстро и слишком внезапно.
— Я всегда тебя слушаю, — неловко бормочу в ответ.
— Нет, — знакомые лучше собственных глаза страшно вспыхивают — отчаянье, безнадежность и странная решимость слились в них в единое целое, — это другое. Сейчас мне нужно только твое внимание. Больше я этого никогда не расскажу.
Длинные пальцы, не дожидаясь согласия, торопясь, обвивают обе мои ладони. Удерживают без видимых усилий — бывают моменты, когда сила у Эдварда становится по-настоящему дьявольской. Но что значит «больше никогда»? О чем эта история?..
— Х-хорошо… — синевато-лиловая вена на бледной шее, извещающая о гневе и ярости мужчины — высших его формах — пульсирует. К тому же, мне кажется, внутрь малахитов закрадывается багрово-красный оттенок. Так и пылает.
Что происходит?
— Мне бояться нечего… — будто сам с собой тихо рассуждает он над моим ухом, — обещания я все нарушил, на заветы плюнул, а границы и рамки дозволенного канули в лету ещё когда я в первый раз увидел тебя… верно, нечего…
Не решаюсь перебивать. Никогда не слышала такого звучания баритона. В нем почти нет слез — да и на лице их не осталось. Только вот выражение, что оно приобретает, вряд ли можно назвать «спокойным» или хотя бы близким к этой планке. На миг посещает мысль, будто он в бреду. Лихорадка, да. Или агония… скорее агония.
Читать дальше