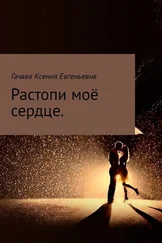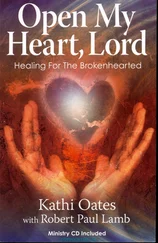— Награда-наказание. Никто, кроме него, не сделает меня счастливее, но и уязвимее тоже. Больнее чем от его… ухода мне вряд ли будет.
Эдвард с силой зажмуривается, стиснув зубы. Секунда, две — молчание. Он, похоже, даже дыхание задерживает.
— Тебе не придется его терять, — мягко уверяю я, в который раз повторяя эту фразу. Но, судя по её значимости, судя по её нужности — не напрасно повторяю.
— Едва-едва сегодня…
— Сегодня — кончилось. Уже час как «завтра».
Моя шутливость его не трогает. И нежность тоже, к слову. Этот мужчина остановился на одной своей мысли — и не отступится:
— Джером меня не простит… я обещал не предавать — и предал, обещал, что детей не будет — не сдержал… он мучается из-за меня… не простит…
Уверенности, сквозящей в этих словах куда явнее, чем боли, можно позавидовать. Та же фраза, но после всего сказанного и рассказанного, во время того, что теперь происходит, жжет лучшим пламенем, чем самый высокий костер. Нас обоих жжет.
И в этот раз я не выдерживаю. Видимо, хладнокровность — не мой конек.
— Ты самый лучший отец на свете, Эдвард. И никогда не смей сравнивать себя — ни с плохой стороны, ни с хорошей — с кем-либо. Ты на голову выше их всех хотя бы потому, что защищаешь своего сына от сотни людей сразу, вот уже как пять лет. Что бы ни связывало тебя с Карлайлом — или как там его — вы совершенно разные люди. Ты боишься стать таким же — но этого не случится, — освободив-таки, наконец, свои руки, устраиваю ладони с обеих сторон его лица, на щеках, поглаживая кожу, — ты любишь Джерома. Ты по-настоящему, сильнее всех на свете его любишь. А потому, априори, никогда не предашь. Ни за какую цену — мы оба прекрасно это знаем. Все круги Ада не страшны — только бы он был в порядке. И не спорь, — предупреждаю, заранее приложив к все ещё синеватым, холодным губам палец, — я знаю, что это так для тебя — и не изменится. Сегодня в аэропорту ты не предавал его, не отбрасывал от себя, а защищал. Ты спасал ему жизнь от сумасшедшего, желающего пристрелить ни в чем не повинного ребенка. И ты спас! Ты спас, Эдвард! Он с нами, он здесь, спит в соседней комнате. Сомневаешься, что простит?.. Нет, он не простит… он тебя пожалеет и убедит в собственной любви так сильно, как никогда. Он увидит, что происходит с его папочкой и вспомнит, как он к нему относится, как любил. Здесь нет ненависти, Эдвард. В Джероме её нет в принципе, а к тебе — только в параллельной Вселенной… и то вряд ли.
Я заканчиваю, облегчённо выдохнув. Прикрываю на пару секунд глаза, собирая вместе разбежавшиеся мысли. Словно бы после спринта на триста метров или какого-нибудь скоростного полета чувствую опустошение. Легкое, быстро проходящее, но все же именно этим словом называющееся ощущение. Зато дышать становится легче.
Сказала. Сказала правду. Уверила. Убедила. А если нет — повторю. Сто раз. Ещё сто раз.
— И давно ты так думаешь? — после некоторого времени молчания все же интересуется он. Боязно, словно бы своим ответом я что-то опровергну.
— С того самого момента, как ты сказал мне, что ничего дороже сына у тебя нет, — я смотрю на него с любовью. Я знаю, это слово ему не нравится, я знаю, оно для него значит совсем иное, но как лучше убедить, как показать, что верить можно и нужно, что опровержения, отказа от услышанного им здесь нет и не будет, чем подобным уверением? Любовь сворачивает горы. Может быть, и упрямство вкупе с недоверием Эдварда свернет?..
Прислоняясь спиной — осторожно, едва касаясь — к холодной стенке уборной, Эдвард устало вздыхает. Ласково потерев мои пальцы, запечатлевает на них два поцелуя — один сильный, ощутимый, другой нежный, незаметный.
— Ты дашь мне минутку?
— Тебе не нужна помощь? — с сомнением оглядываюсь вокруг, подмечая, что полотенце все ещё в углу, и сидя его не достать.
— Пока нет. Спасибо, viola.
Намек понятен. Вот только боюсь, как бы, пока я буду исполнять вашу просьбу, мистер Каллен, вы не разбили себе что-нибудь, попытавшись встать на плохо слушающуюся ногу.
Однако Эдвард поверил мне — а я должна ему. Мы ведь вместе.
Потому встаю — медленно, выверяя каждое движение — и выхожу наружу. Ледяная комнатка пропадает вместе с не менее ледяным её обладателем, в то время как теплый коридор радушно принимает меня в свои объятья. Но вот парадокс — холодные руки Эдварда были куда теплее, чем теплая кожа кресел внутри салона.
И все же сижу. Терпеливо, стараясь не шуметь — хочу слышать все, что происходит в туалете — жду.
Читать дальше