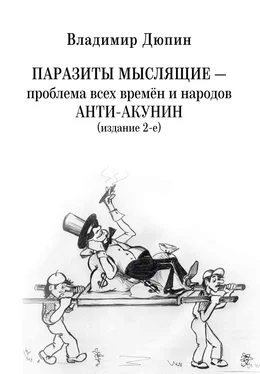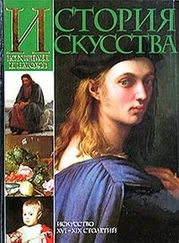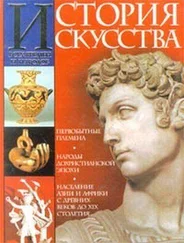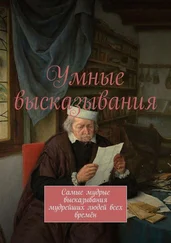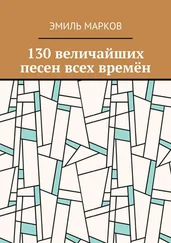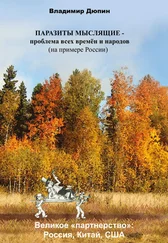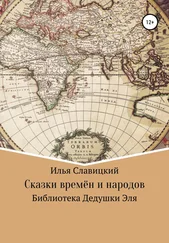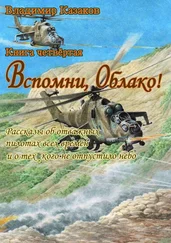К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ
Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и душит, она нам невыносима, и многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других. Насильем и террором распространяются религии, учреждаются империи и республики, насильем можно разрушать и расчищать место — не больше.
Пора с глупостью считаться как с громадной силой. «Собственность не погибнет», видоизменение её, вроде перехода из личной в коллективную, неясно и неопределенно. Отними у самого бедного мужика право завещать — и он возьмет кол в руки, т. е. непременно станет за попа, квартального и чиновника, т. е. за трёх своих злейших опекунов, обирающих его.
Приложение 3. КАК ЖИЛИ КРЕСТЬЯНЕ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? то, чего отнять не можем, ‒ один воздух. Жестокосердый помещик! посмотри на детей крестьян, тебе подвластных. Они почти наги. Ты собираешь и то, что тебе не надобно. Если здесь нет на тебя суда, ‒ но пред судиею, не ведающим лицеприятия, давшим тебе совесть, но кою развратный твой рассудок давно изгнал из сердца твоего, не ласкайся безвозмездием.
(А.Н.Радищев)
Однажды маленький Миша Салтыков (будущий писатель Салтыков-Щедрин) поехал с матерью к тетеньке. Тут он увидел такую страшную картину, что она врезалась ему в память на всю жизнь:
«У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями к столбу, стояла девочка лет двенадцати и рвалась во все стороны. Рои мух поднимались из навозной жижи, вились над ее головой и облепляли ее воспаленное, улитое слезами и слюною лицо. По местам образовались уже небольшие раны, из которых сочилась сукровица. Девочка терзалась, а тут же, в двух шагах от нее, преспокойно гуторили два старика. Я сам стоял в нерешимости перед смутным ожиданием ответственности за непрошенное вмешательство. Однако ж сердце мое не выдержало; я подкрался к столбу и протянул руки, чтобы развязать веревки.
— Не тронь… тётенька забранит… хуже будет! — остановила меня девочка. — Вот лицо фартуком оботри… Барин!.. Миленький!
И в то же время сзади меня раздался старческий голос:
— Не суйся не в свое дело, пащенок! И тебя к столбу тётенька привяжет!»
Много лет спустя Салтыков в «Пошехонской старине» изобразил эти картины: «Кто поверит, что было время, когда вся эта смесь алчности, лжи, произвола и бессмысленной жестокости, с одной стороны, и придавленности, доведенной до поругания человеческого образа, — с другой, называлась жизнью?!»
Степень неравенства после отмены крепостного права уменьшилась, но пример сожаления об этом приведён в рассказе Куприна «Гранатовый браслет»:
«‒ Что ты думаешь сделать? ‒ спросил князь Василий.
‒ Поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом…
‒ Фи! Через жандармов! ‒ поморщилась Вера. ‒ Мне почему-то стало жалко этого несчастного.
‒ Жалеть его нечего! В прежнее время я бы просто велел отвести его на конюшню и наказать розгами».
Отмена крепостного права выдвинула в деловой мир страны предпринимателей из низов. На селе таковыми были кулаки, державшие весь «мир» «в кулаке». В 1904 году Петр Столыпин пишет: «В настоящее время более сильный крестьянин превращается обыкновенно в кулака, эксплуататора своих однообщественников, по образному выражению ‒ мироеда». Профессор Эмиль Дилон, в 1877‒1914 гг. живший в России, писал: «Из всех человеческих монстров не могу вспомнить более злобных и отвратительных, чем кулак». Прозвище «мироед» придумали вовсе не большевики.
Революция 1905‒1907 гг. началась с события, имеющего название «кровавое воскресение». Священник Г.Гапон предложил устроить мирное шествие рабочих для подачи царю петиции: неприкосновенность личности, свобода слова, печати, отделение церкви от государства и созыв учредительного собрания. Для подавления революции правительству пришлось привлечь 120 000 солдат. За 2, 5 года революции в стачках приняло участие около 3 млн. человек, около 400 волнений солдат и матросов. Было разгромлено примерно 3000 дворянских имений.
Несмотря на поражение революции, царизму пришлось делить власть с Думой, создавались общественные организации, профсоюзы, партии, улучшились условия труда рабочих. Буржуазия получила широкую возможность участия в политической жизни страны. В 1912 г. был принят закон о государственном страховании рабочих. За годы революции средняя заработная плата выросла с 214 до 241 руб. в год. Сократилась средняя продолжительность рабочей недели с 75 до 50‒60 часов. Революция способствовала политическому просвещению масс. Участие в митингах, демонстрациях, чтение недавно запрещённой литературы ошеломило миллионы людей неслыханными, непривычными словами. Впервые появилась такая форма организации как советы.
Читать дальше