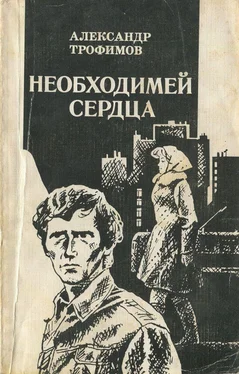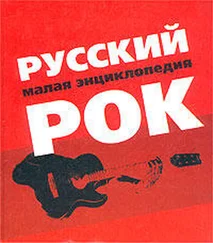Мне нравится тренировать свою наблюдательность — встретишь человека, а в нем нет отличительной черты, но идешь за ним, впитываешь глазами его движения и вдруг понимаешь, как резко он отличается от других людей, и если бы сейчас затерялся он в толпе, то ты бы его в ней не потерял, взгляд мгновенно выхватил бы его походку из других походок. И вот уж думаешь о совсем чужом человеке словно о родном, и думать о нем приятно, и чувствуешь, что это заставляет и на себя потом смотреть по-иному. Как много говорит о человеке его одежда, манера носить ее, стиль разговора, угол размаха рук, посадка головы, походка, улыбка, наконец. Есть люди, у которых улыбка на лице — лишнее, она придает лицу хитроватость, угодливость, они сквозят в каждой мышце, но как только улыбка покидает лицо — оно становится мужественным, не способным ни к угодливости, ни к хитрости. А лица старух — целые поэмы. Размягченные, усталые мускулы едва удерживаются ослабшей кожей, время расписалось морщинами на податливых когда-то к изменчивости лицах, глаза — как дотлевающие костерки.
Вот идет мужчина — строгий шаг, твердое лицо, и, однако, вглядись, вглядись — посадка головы выдает в нем натуру слабовольную и уставшую от своей маски решительного начальника средней руки, и сквозь замки, спрятавшие искренние чувства, просвечивает человечек, для которого лучшее удовольствие в жизни — преферанс по субботам.
Все написано на наших лицах, только редко мы умеем читать написанное.
Вон мужчина в потертом пиджаке, с отсутствующей верхней пуговицей. Как медленно он ступает, ноги его не хотят идти домой, вот он заглянул в витрину и отразился в ней, подгорбленный одиночеством. И я представляю, как тихо войдет он в свою и летом холодную комнату со слоем пыли в мизинец на гардеробе, как сбросит небрежно пиджачок, думая, чем бы заняться и вяло приготовит свой всегдашний ужин-яичницу и достанет из старенького маленького холодильника бутылку дешевого портвейна, с остатками жидкости, которой впору красить заборы, нальет в стакан, да и задумается о себе, вспомнит семью и, сдаваясь на милость тоске, подойдет к окну и долго будет виновато смотреть на дневной свет.
А как люблю я смотреть на веселые, ясные лица, какая сквозит в них способность к добру и пониманию. Как помогают они внутренне собраться, когда рассредоточен и мысли размыты. Не ради ли этих добрых лиц выходишь на улицы, часто не отдавая себе в этом отчета. Как радостно замирает на них взгляд, какой заряд уверенности получаешь, и как торжествует тогда прогулка под туманом, кутающим душу. Идешь, идешь и чувствуешь, как пропадает душевная усталость и как дорого рукопожатие ветвей и касание листьев в эти минуты.
Когда много ходишь, появляются любимые дома, деревья, даже окна. Есть такие особенные окна, что зимой зажигаются очень рано, — в них живут одинокие люди, они отгораживаются от наступающей темноты искусственным светом и множеством маленьких дел.
Снег делает дома похожими друг на друга, а весной кажется, что они хотят расцвести необыкновенно зеленым цветом, и порой веришь, что из оконных рам появятся вдруг ветки с огоньками листьев.
Но постепенно от повторяющихся ежедневно картин во взгляде накапливается усталость. Взгляду необходима новизна домов, деревьев. Он притупился от каждодневного повторения. Недаром умные люди любят путешествия и стремятся к переменам, ведь, возвратившись, они видят окружающее новым, так после знакомства с интересным новым человеком и старые знакомые кажутся другими.
Наблюдая, поражаешься, как много люди говорят и так привыкают к разговорам, что некоторые ведут беседы и сами с собой, — это видно по поверхностной сосредоточенности их взгляда и по движениям губ, и в спорах с собой они успешно решают все свои жизненные проблемы, побеждая противников разумом, силой и умением правильно поступать в любой житейской ситуации.
Вокруг так много говорят, точно хотят скрыть свои сокровенные мысли и чувства, которыми стыдно поделиться. Иногда приходит удивительная мысль: если бы люди не говорили, то многие умерли бы от скуки, не зная, куда себя деть.
Однажды, устав от разговоров, я дал себе слово молчать целый день, предупредил об этом мать и не выходил из комнаты. Ни телевизор, ни радио я не включал, ставил на проигрыватель лишь пластинки Бетховена и Моцарта. И я чувствовал, что странным образом меняюсь, очищаюсь как-то. Слух отдыхал от слов. Я, правда, не отказал себе в удовольствии чтения, но это дело особое — печатное слово входит через зрение, дорога слуха закрыта для него.
Читать дальше