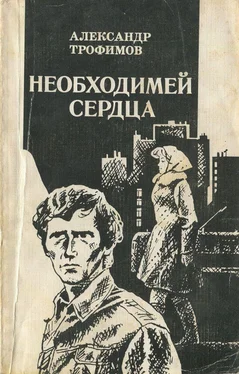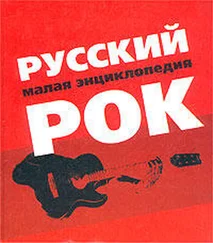Я убедился, что частые разговоры закупоривают слух, мешают главным словам, девять из десяти слов, что мы говорим, можно и не слушать — сколько нервных клеток сберегло бы это! Часто слова, задевшие нас, обидевшие, мы воспринимаем как оскорбительный поступок и даже тяжелее, чем сам поступок, — за словом ждешь поступка, и он кажется нашей фантазии гораздо серьезнее, оскорбительнее, чем если бы произошел на самом деле, и воспринимаешь его как уже происшедший.
Молчание столько открывает мелкого, наносного, нередко гадливого, что, может, поэтому люди не любят молчать. А как было бы хорошо, если бы хоть раз в месяц устраивался день молчания.
Я устраиваю себе такой день.
Выключите хотя бы на час из своей жизни слух — и вы очутитесь в ином мире.
После дня молчания я по-другому все воспринимаю, меня тянет на пустынные улицы Арбата. Однажды, повинуясь неясному мне до сих пор чувству, я встал летним утром часов в пять, быстро дошел до метро, будя улицы тихими шагами, доехал до «Арбатской» и долго бродил по улицам и переулкам старой Москвы, физически ощущал ее, сострадал ей — знаю, знаю, что это покажется многим смешным! — маленьким, доживающим тихонько домам, и фантастические мысли приходили мне в голову: если старые деревья и дома слышали многих интересных, умных людей, значит, каким-то образом они запомнили их, не могли не запомнить, и когда-нибудь голоса можно будет восстановить, если оставить дома и деревья живыми.
И сумасшедшие думы эти были приятны и необходимы, а улочки Арбата переливались одна в другую. И этот кусок прошлого жил своей жизнью, и одинокие прохожие, изредка появляющиеся рядом, казалось, несли отсвет прошлых домов в своих глазах.
Приходила мысль, что хорошо пишется там, где остаются — не знаю, каким еще словом это можно обозначить, — думы других поколений, они как бы сходятся с твоими думами, и от соприкосновения с родственными думами, сохранившимися каким-то одним им лишь ведомым образом в этой особой арбатской атмосфере, и твои думы облагораживаются. О эти мужественные старинные московские переулки, хранители тайн, стражи времени, отчего не заговорят они — или говорят, но мы не различаем их голосов в шуме суеты?
Изо дня в день торопился я на работу, и минуты подгоняли меня. И метро принимало меня, как всех, и плечи таких же, как я, спешащих упирались в мои плечи.
А в обед я быстро съедал пару припасенных бутербродов и целый час бродил вокруг своего завода, стараясь сделать так, чтобы день не пропал для меня даром.
Донской монастырь был в десяти минутах быстрой ходьбы от моего завода. Умудрившиеся выжить в черте города, много повидавшие, старинные липы поднимались высоко в небо, точно беседуя с облаками, сурово взиравшими с неба.
Иногда я проходил мимо Донского монастыря, с той стороны, где он опоясан строем гигантских лип, обильной листвой упорно сопротивляющихся городскому шуму, покушавшемуся на приличествующую бывшему монастырю тишину.
Отталкивал меня от монастыря соседствующий с ним крематорий. Одна мысль, что в небе растворен дым его печи, приводила мою душу в негодование, дыхание становилось менее глубоким. Но постепенно я привык к тому, что человек становится не землей, а горсточкой пепла. И не все ли равно — что будет потом?
Как-то я шел мимо открытых ворот крематория — в ворота медленно входили люди, и за трагическим выражением лиц я угадывал страх, что придется когда-нибудь умереть, и грубое любопытство увидеть, как это произойдет, на примере других, и словно бы побывать на границе мира нынешнего и мира иного, и снова вернуться в свой привычный мир, и жить, острее ощущая все вокруг.
Не скоро решился я войти в Донской монастырь, но, пройдя надменные ворота и оказавшись внутри стен, — не испугался и не пожалел. Тишина поразила меня прежде всего: даже птицы не пели. Купола горели на солнце, как огромные шлемы. Глаза мои привыкли к современным домам, мало чем отличающимся друг от друга, и с удивлением поглощали здесь непривычные округлые формы, дарившие умиротворенность. Скульптуры с внутренней стороны монастыря казались сосредоточенными, точно размышляли над человеческими делами. Огромные лопухи у дороги были как чьи-то зеленые ладони, протянутые из-под земли к солнцу.
Я бродил среди плотно расположенных друг к другу надгробий, собранных здесь из многих мест, и удивление не покидало моего сердца: сколько лет был я рядом, а этот оазис музейной тишины открыл только теперь.
Читать дальше