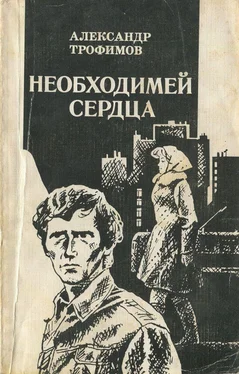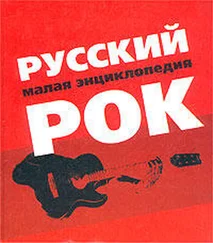Ни одной женщине не доверял я столько сокровенных мыслей. И не все и не всегда доверишь женщине — даже самой умной, самой доброй, самой любящей, самой понимающей, — всегда существует граница, и чем откровеннее хочется быть, тем острее ощущаешь невозможность этого. Что такое откровенность, как не настойчивое желание избавиться от чего-то. А машинке я доверял все, даже самое неприличное, что можно представить в мыслях. И именно машинка доказывала ничтожность этих мыслей. Эти равнодушные на первый взгляд братья и сестры — буквы — объединились, чтобы помочь мне. Напечатанное на машинке вовсе не было моей мыслью. Печатные буквы корректировали мысль, где-то убирали лишнее, добавляли что-то, порой нахально и незаметно меняли смысл, оставляя лишь интонацию, и я понимал, что рожденное в голове скорее не мысль, а импульс мысли, зародыш, и, пока я стучал на машинке, разбрасывая пальцы, мысль мгновенно вырастала.
Часто я сразу же разрывал написанное, даже не читая, а лишь чувствуя неискренность страниц, ничтожество и бедность чувств, пошлость… Пока человек молчит, он всегда кажется умным и его мысли кажутся ему свежими и оригинальными, но стоит им появиться на свет из утробы мозга, как сразу всем становится видно, какие это недоноски.
Когда я убирал машинку на диван, освобождая себе стол для чтения или еды или чтобы писать авторучкой, я чувствовал грусть.
Когда, уставая, я ложился на диван, я не смел поставить машинку на пол, это как бы унижало наши отношения, и она покоилась в ногах, как молчаливая преданная женщина, ждущая своего повелителя, но не смеющая напомнить о себе ни одним жестом. Она любила ласки моих пальцев и вздрагивала от прикосновений подушечек, как чувственная женщина. Прикасался ли я к какой-нибудь женщине столь же нежно, с нетерпеливой жаждой ответа? Порой казалось, что стоит убрать руки — и машинка будет продолжать печатать: так хорошо мы друг друга понимали и так явственно передавалось ей мое настроение. Был ли человек на земле, с которым я провел больше времени, чем с ней? Не было.
Машинка изменила меня больше, чем кто-либо. Прежде всего она научила трезво мыслить. Если после авторучки предложение казалось средоточием мысли, то когда мысль соединялась в ровные буквы, а те — в ровные ряды строчек и ничто не отвлекало от смысла, становилось ясно, чего стоили мои извилины и была ли среди них хоть одна, достойная внимания. Четкие поля как бы заставляли мысль подравняться, спрятать все лишнее, отвлекающее внимание от смысла, от главной цели, избавиться от вычурности, лишней образности, грубых выпадов. Она учила концентрироваться на главном, не распыляться, заставляла, наконец, уважать себя и свою работу. А за четкой мыслью пришло четкое отношение к жизни, к себе, к иллюзиям, прежде питавшим мои отношения к знакомым. Эта машинка доказала, как важно быть самим собой и сколько я теряю в себе настоящего, когда хочу понравиться женщине, когда становлюсь тщеславным. Я научился ценить стройность, гармонию, характер стал ровнее, потому что он подчинился одному — служению машинке. Всякая измена машинке называлась ленью и трусостью.
Когда я принес машинку в дом — она была тяжелой и старой. Точнее, казалась такой. Я водрузил эту груду металла, объединенную чьей-то мыслью в одно целое, на стол и долго смотрел на нее, дав ей самой хорошенько оглядеться. В нее были вложены мои деньги, а их у меня едва хватало на еду и самую дешевую одежду. Чтобы заработать эти деньги, я ходил на работу, которую не любил и которая требовала времени и внимания, заставляя забыть, что у меня есть душа. Она обошлась в полмесяца жизни. И теперь эта половина месяца как бы вернулась, стояла на столе. Я подсчитал: восемь часов работы, час на работу, час с работы и целый час обед. Это одиннадцать часов. Целых одиннадцать часов. Чтобы вернуть их, приходилось расплачиваться сном. Одиннадцать часов на пятнадцать дней — сто шестьдесят пять часов. Никак не меньше. Вот сколько жизни было в этом металле, равнодушном, чужом. Но если ее переплавить, время не вернется. В этом была насмешка, но я понял: такова жизнь — за все нужно платить временем и ничего нельзя требовать обратно.
Машинка осторожно оглядывала комнату, тихо принюхивалась. Чем пахнут комнаты с точки зрения машинки? И я подумал, что моя комната пахнет пылью и старой мебелью, должно быть, это неприятно — металл не любит дерева. Если деревья давали кислород, то, срубленные и превращенные в книги, они словно мстили за погубленную пилами жизнь и жадно вбирали в себя кислород, чтобы жить подольше. И когда я открывал окно, то слышал глубокий вздох соскучившихся по свежему воздуху книг.
Читать дальше