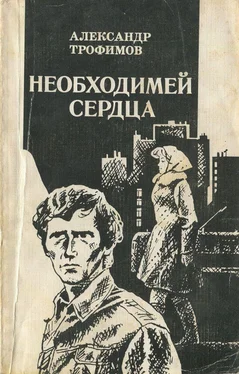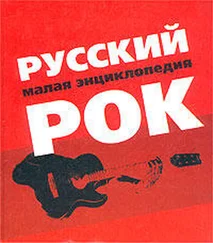Особенно я боюсь мыться. Я никогда не трусь мочалкой. Должно быть, со стороны я кажусь странной, но покажите мне хоть одного нормального человека. Иногда я просыпаюсь ночью от мысли, что покой моей родинки нарушен. Я стерегу ее покой, и для меня давно уже сконцентрирована в этой родинке вся моя жизнь, она царит надо мной — безо всякого преувеличения — и днем и ночью. Я не танцую, ведь тело мужчины, крепко прижатое ко мне, подбирается к моей родинке, чтобы лишить меня жизни. О, я, конечно, понимаю, что, может быть, все это не так, но ничего, ничего не могу с собой поделать. Я не езжу в жаркие месяцы к морю — родинка не любит солнца, к тому же галька или заусенец лежака могут содрать ее. Я рада, что у нас нет детей — я не хотела бы, чтобы ребенок чувствовал все то, что испытала я, сделав страшное открытие: раз родинка у матери, у меня, — значит, будет и у него, к тому же ребенок может мою родинку сорвать в своей замысловатой игре. Эти мои мысли — кандалы. Когда я вижу людей со странностями, я стараюсь угадать, какой изъян сделал их такими. Я стою перед зеркалом, вспоминаю мать, завидую ее незнанию и понимаю, что незнание — благо. Я смотрю на отраженную насмешливой поверхностью зеркала родинку и чувствую смех родинки, глубокий, бархатный, как она сама. Сколько она отняла у меня радости? И вместе с тем я уже так привыкла к ней, что никогда не отказалась бы избавиться от нее. Я смотрю на свое все еще молодое упругое тело, не знающее, что такое загар, поднимаю рубашку, облачаюсь в нее и принимаюсь рассматривать лицо, уставшее от ожидания смерти. Лицо у меня странное: свежее, даже отчего-то веселое. Видели вы такие лица у приговоренных людей?
В санатории «Приморье» кончились танцы.
Рядом с ним шла молодая женщина. Когда она смеялась, лунный свет выделял весело бежавшие от уголков ее глаз тонкие морщины.
Когда она замедлила шаг, он поцеловал ее. Губы были упруги, выпуклы, слабо-слабо пахли детским кремом. Их первое же прикосновение выдало опытность их обладательницы.
Вернувшись к себе, он долго лежал с открытыми глазами, вспоминая свой первый поцелуй.
Прежде с «Приморьем» соседствовали деревянные корпуса, теперь превратившиеся в один высокий современный корпус, точно корабль, готовый вот-вот спуститься в море.
Сколько ему было тогда? Тринадцать? Да, кажется, тринадцать лет.
Или все-таки двенадцать?..
…Таня пригласила его на белый танец, он хотел отказаться, потому что знал: это понравится товарищам-мальчишкам, и он станет ближе к ним, и, быть может, они станут реже подсмеиваться над ним. Но Таня так светло подошла к нему, протянула руку — и этот жест решил все. Тело его горело, и когда он приблизил лицо к ее волосам, то услышал теплый запах детского мыла.
Этот запах и теперь, ночью, возник в нем, словно звал за собой по узкой тропинке воспоминаний, протягивал ему руку.
Звучала медленная музыка, и замершей ладонью он чувствовал живую от движения ткань ее платья. Он боялся пошевелить рукой или посмотреть ей в глаза. Иногда, скашивая взгляд, видел только чуть обгоревшие крылья носа. Танины ресницы нежно вздрагивали. И где-то там, в окаменелости нутра, рождалось радостное, благодарное чувство — меня, меня выделила она из всех, одного меня.
Мелодия кончилась быстро, и он со стыдом заметил, что ему хочется продолжения танца.
Но было уже поздно, темно.
Придя в корпус, он лег первым и притворился спящим, не откликался и все время думал о Тане, и ему хотелось, чтобы она думала о нем.
На следующий день он был среди дежуривших по корпусам. Они проверяли чистоту. С ними ходила медсестра.
В одной из палат он увидел Танино вчерашнее платье. Оно аккуратно висело на вешалке, и он неосознанным каким-то движением потянулся к нему, точно прикосновением хотел вернуть вчерашний вечер, ощущение первозданности всего окружающего.
Он облегченно заметил, что никто не увидел его порыва, и, когда все вышли, чувствуя сердце одновременно и в пятках и в висках, подбежал к этому синему платью, точно оно было его фантастическими вчерашними сумерками, и уткнулся лицом в теплую ткань, обернулся, убедился, что никого нет, и прильнул губами к волшебному рукаву девичьего платья. И тут же выбежал вон.
И весь день он носил на губах неповторимый вкус счастья.
…Теперь он думал о своей юности — и его жизнь казалась ему лишь слабой копией жизни, которая могла быть у него.
Могла ли?..
Странная профессия у писателя. Обнаруживать в себе душу и, чтобы люди не подумали, что ты их обманул в этом, выставлять ее на бумаге, распластанной, отдающейся глазам читателя. Между ним и бумагой — только машинка. Но и она — женщина. Странное сравнение, правда? Но вот сегодня мне на глаза попалась первая моя машинка, она стояла в шкафу, под газетой. Она была как чудовище в сравнении с моей теперешней машинкой. Когда я посмотрел на нее, мне показалось, что она мне улыбается. Я привык фиксировать свои чувства. Я знал — стоит пошевелиться чувству, как его можно вытащить на божий свет.
Читать дальше