Она уже дважды их видела, застреленных и брошенных на виду, и оба раза они там лежали по трое, но были то не Бяржонскисы, а вот средний — очень похож, но не Паулюс. Столько тогда и знали: если мертвым, убитым никто не видел, значит, жив пока. Если же подстрелили и закопали, все равно не узнаешь где.
В ту пору, как Паулюс ушел в лес, слегла сноха — жена брата. В самое время слегла. Паулина помешалась бы от векования в своем закутке, от глядения на пустой проселок, по которому изредка проезжал раздолбанный грузовик, полный стрибами [23] Стрибы — ополченцы советских добровольных истребительных отрядов в послевоенной Литве. (Здесь и далее — прим. перев.)
и солдатами. Были дни, когда стрибаки вваливались и к ним. Всем отрядом, понятно, ведь по одному боялись. Бандиты не заходили?.. Что вы о них слышали?.. А может, все ж таки заходили?.. Брат откупался двумя-тремя бутылями самогонки, всегда припасаемыми на такой случай. Все хранили и все варили, ведь самогон в пору войны, смуты, разрухи заменяет деньги и никогда не теряет в цене.
И брат, и сноха были юные сильные люди, а ребенок родился слабый и мелкий, кричал ночь напролет, что-то всегда у него болело. Хуже всего, если не знаешь, что у ребенка болит, потому и помочь не можешь, только носишь его на руках, тетешкаешь и жалеешь. Перед войной в местечке был доктор, хороший доктор, но русские, как пришли в первый раз, его выслали, а теперь в большом, красивом докторском доме угнездился самый их ястребятник. Правда, вместо доктора откуда-то выискался фельдшер не фельдшер, живодер не живодер, который и людей лечил, и поросят резал. Кто такому доверит малого ребеночка? И по жалости, и по душевной боли Паулина вызвалась помогать снохе, которая и по двору-то ходила качаясь. Шитья почти не было, негде было купить лоскут обыкновенного ситца, из местечка ей несли перелицевать разве что старый пиджак или юбку. Свой огород она прополола четырежды, столько же раз могла и картошку окучить, да брат запряг лошадь — и все дела, она даже расстроилась из-за этого. Однако все воскресенья принадлежали ей. Ни за что бы не отреклась она от этой дороги по лесу на подгибающихся ногах, от этого леденящего страха с приближением главной площади.
Бяржонскене с того раза больше не приходила, а сноха, которая к ней все бегала за советом и даже дитенка носила показывать, — сноха говорила, что та совсем плоха, дальше некуда. Вот Паулина и поразилась, когда перед самым закатом увидала ее на проселке, укутанную в широкий платок, под которым что-то она несла, может, какое лукошко. Ясно, что к ним идет, ведь их изба была крайняя, только не в ту сторону, где местечко. «Боже!.. — кольнуло Паулину в сердце. — Уж не свой ли саван попросит шить!..» И знала, что не откажет.
Но Бяржонскене была не так слаба, как говорила сноха. Паулина сразу же усадила гостью, та лукошко свое, рогожей прикрытое, поставила на пол:
— Ну и как ты живешь, детка?.. Знаю, что маешься, знаю, про что хочешь спросить… Живы, живы!.. Только Стяпонас ранен был, но теперь, сказали, выздоравливает. И наши с тобой молитвы пошли впрок, не иначе, я же вижу, как ты истово молишься в храме.
Паулина уронила локти на швейную машинку и во весь голос, трепеща плечами, зарыдала. Впервые с тех пор. Бяржонскене сидела над своим лукошком, как деревянная.
Когда Паулина отплакала, отрыдала, отскулила и снова выпрямилась над столом, Бяржонскене произнесла:
— У меня к тебе, Паулиночка, есть большая просьба. Как совсем стемнеет, не снесешь ли эту мою корзинку к большому дубу? Я сама не могу: ноги почти не держат… И еще вот Язбутис… Мы ведь живем с ним окно в окно.
Все немногие жители Дваралиса точно знали, что Язбутис красный. Еще до войны старый Бяржонскис нанял его в батраки, но совсем никудышный был из того работник. «Ежели пальцем ткну да еще подтолкну куда надо и колом подопру, тогда еще ладно, — сетовал Бяржонскис. — А если нет, так и лежит под кустом». Уже в первую зиму, волоча бревна из лесу, надорвался лучший битюг Бяржонскисов, однако старый хозяин ни в суд не подал, ни из жалованья не вычел, да и вычитывать было не из чего. Только перекрестил на дворе у колодца и так сказал: «Иди себе прочь, бедолага, на все четыре стороны и больше мне на глаза не являйся». Но Язбутис явился. Потеревшись в местечке год с небольшим, вошел примаком к пожилой вдове за проселком и лез на глаза Бяржонскису с утра до ночи.
Бяржонскене, чуть наклонясь, отогнула рогожку и начала объяснять про вещи, сложенные в лукошке, но сами вещи не трогала:
Читать дальше
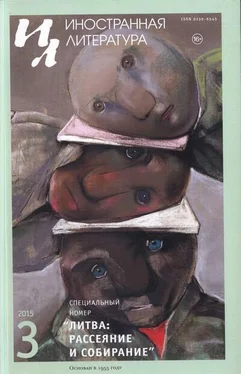






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


