У Паулины родителей нет, на второй половине избы живет семья брата. Родители, как и старый Бяржонскис, поумирали один за другим под конец войны, однако Вайткус успел еще похлопотать о судьбе дочери:
— Богатства большого тебе завещать не имею, а куплю машинку швейную, и сможешь два года учиться на портняжку в Можейках у Александравичене, я сговорился. Ты про такую слыхала?
— Слыхала!.. Она в Риге у немчиков ремеслу училась!..
Когда Паулиной овладевало волнение, в глазах у нее будто бы зажигались две малые электролампочки, озарявшие все лицо. А отец такое вдобавок сказал:
— Еще мы на тебя записали меньшею делянку и ту полосу, где ячмень в этот год, и пол-избы, вот и будешь в своем закуточке шить-вековать.
И ее лампочки вдруг погасли.
Одним словом отец постановил всю ее грядущую долю: без мужика, без семьи, без детей — жалкая жилистая вековуха, скорченная над швейной машинкой в своем закутке у окна, за которым — седая трава на дворе, стежка о двух колеях и темное марево ельника с редкими березняковыми просветами.
До хваленых этих Можеек она, если вправду, со двора толком шагу не делала, а только с младенчества — с матерью в церковь, только с тремя сыновьями Бяржонскиса — в сельскую школу, пока не прошла там шесть классов, и никуда больше. И всего-то — две версты лесом, пока не покажутся башни костела, и тогда уже легче, а когда они отдаляются за спиной и тают — от подступающих елей словно бы долетает ледяное дуновение страха, выступает ознобный пот, но требуется идти, а бежать нельзя, ведь мама как наставляла: если боишься — никогда не беги, страх все равно быстрее, нагонит и со злости удушит!.. Так она и росла: боязливая, слабая, вся белесая, чем-то похожая на весеннюю козочку.
Когда отец умер, она очень хотела забыть эти его слова об угасании-вековании. Нельзя долго злиться на своего отца, да еще мертвого. Но каждым утром, расчесывая волосы, все она видела напоминанием в зеркале.
Да и без всякого зеркала она всю жизнь будет помнить то жаркое июльское воскресенье. Они с матерью вернулись из церкви, набрали воды из колодца, попили, и мать сказала:
— Переоденься и полезай нарви черешни. Той вон, желтой.
Она переоделась, взяла корзинку и полезла. Нарвала почти доверху, а больше ничего не помнит.
Четверо суток ее как не было. Ни во плоти, ни в рассудке. Еще под вечер того же дня пришла старая Бяржонскене, смотрела, смотрела, потом говорит:
— Только не трогайте, нибожежмой, не касайтесь! Ни мизинчиком!.. Если очнется — так, очухавшись, и будет жить полегоньку.
Когда Паулина впервые заново шагнула во двор, со стороны могло показаться, будто она, скосив голову на плечо и чуть кверху, слушает пение жаворонка в вышине, однако — откуда жаворонок, первый снежок только выпал!.. Чистый мир вновь распахнулся вокруг, и она боялась, что теперь он станет выглядеть по-другому, словно криво повешенная картина, но все обошлось: избы Дваралиса стояли привычно прямо, и ели по-прежнему стройно темнели. И она стала жить полегоньку.
Но как-то летом, в жатву, по просьбе Бяржонскене, она пошла на толоку. Рожь убирали в четыре косы, работали Милюс и три сына Бяржонскиса, парни как на подбор, все погодки, один другого сильнее и выше. Бяржонскене в поле не было, она оставалась дома и варила еду косарям. Паулина вязала за Повиласом, одноклассником по сельской школе. Работала вся в поту, а от иных не отстала. Весь долгий день пробыла согнувшись, а голова ни разу не поплыла, и мгла даже коротко не затмила глаза Какая к вечеру была радость!..
Все три сына Бяржонскиса не были женаты. Повилас — это ясно, он учился в Каунасском университете, который немцы уже закрыли, но почему до сих пор оставались бобылями старшие? Потому ли, что вокруг шла война и никто не знал, придут не придут снова русские, или же потому, что старая Бяржонскене пока не хотела ни с кем ни одним делиться?
А были потом эти ясные тихие вечера на проселке, когда солнце легко налегало на ельник, а они всё ходили-ходили с негромким своим разговором, не прерывая слов ни на одну минуту, — от самой крайней делянки и до большого дуба, где свой овал замыкали деревья, а тропа ускользала вдаль между стволами. Уже в первый вечер, когда они сели на траву под огромным дубом, Повилас достал из пиджачного кармана сложенный вдвое журнал и показал ей:
— Хочешь поглядеть? Это я.
На фотографии точно был он: в студенческой кепке, сдвинутой набок, и чубом, выбившимся из-под нее. Даже красивей, чем тот, кто теперь сидел рядом. Крупными буквами — его имя, а снизу — стихи.
Читать дальше
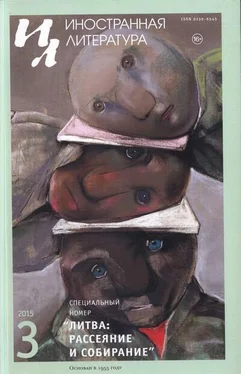






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


