— Повилас, — удивилась она, — ты ведь Повилас, а тут написано — Паулюс?
— Знаешь… Повилас — не самое поэтичное имя. Поэтам разрешается не только имена, но и фамилии менять. Я фамилию не трогал, Бяржонскис в Литве один такой среди поэтов.
В ее глазах вдруг блеснули те две лампочки и померкли не сразу, а в голове послышался какой-то протяжный клич: «Боже!.. Он — Паулюс, а я — Паулина!..» Но она ничего не сказала громко, а только сидела, вся застынув и вслушиваясь, как эхо этого клича проваливается куда-то в самую глубь нее. Сказал сам Паулюс:
— Видишь, как складно выходит? Я — Паулюс, а ты — Паулина?..
И поцеловал ее.
Она закричала в испуге:
— Паулюс!.. Как ты можешь… Ведь я неученая, и!..
И договорила одними губами:
— …и кривая…
Паулюс ей ответил спокойно, только чуть медленнее произнося слова:
— Знаешь, для поэтов не так важна внешняя красота женщины, как ее душа. А твоя душа чиста и прекрасна, как… — он поднял глаза ввысь и поглядел на дубовые ветви.
— Как белая роза!
Она посмела спросить:
— Паулюс, а про что эти твои стихи?
— Про свободу и родину!.. Я тебе сейчас почитаю.
В другие вечера он тоже читал ей свои стихи, только не из журнала, где их много и не могло быть, а из такой пухлой записной книжки, которую всюду носил с собой. Там были слова и про их любовь. Правда, самого слова «любовь» не было, только про белую розу, которая в лунные ночи светит, как золотая. Паулина сама догадалась, что это про их любовь.
Теперь по воскресеньям, не пропуская ни одного, Паулина ходила в церковь и жарко благодарила Пресвятую Деву за все, что та ей преподнесла. А вечерами, уже перед самым сном, никогда не забывала помолиться:
— Иисусе Христе, ты столько страдал, а за что мне такое счастье? За что?
Засыпала, так ничего не узнав.
Война кончилась, снова пришли русские.
За проселком в обширной усадьбе ходили три сына Бяржонскиса, исполняя всякие хозяйственные работы. Русские стали забирать литовцев в свою армию. Молодым ребятам, кто еще не пошел в партизаны, надо было прятаться, чтоб не призвали, и ждать, когда пожалуют америкосы и вместе с нашими партизанами вышибут этих русских с литовской земли. Никто не думал, что они тут разместятся, как дома, надолго.
Как-то вечером, перед закатом, в то их лучшее время, пришла Бяржонскене:
— Повилас велел извиняться, что даже проститься не смог.
— Боже!.. Где Паулюс?..
— Ушли сыновья мои в лес. Сама отослала и благословила: идите и не возвращайтесь, пока Литва не будет свободна!..
— Где они все теперь? У партизан или просто прячутся?..
— Кто их знает?.. — Бяржонскене отвела глаза. — Молодые, быстрые… Кто скажет, на какую тропку лесную свернули?.. И тебе лучше не знать.
Когда Бяржонскене вышла, Паулина сорвалась в крик:
— Какая ж я дура!.. До чего ж туполобая!.. Ведь она все сказала!..
Теперь ее вечернее моление изменилось:
— Иисусе Христе, ты столько терпел, упаси Литву, сохрани Паулюса, сбереги нас всех… Аминь.
Слово «любовь» она в молитвах своих не смела произносить.
Дни ее, вроде, остались такими же, зато ночи переменились. С вечера она забывалась, как мышь, чуткой пугливой дремой, прерываемой каждым шелестением, шорохом, будто слышала, как в самой черной осенней тьме через колодезный журавель перемахивают совы. Она сама не хотела засыпать крепко. А вдруг не услышит особенно тихий, сторожкий постук — со стороны двора в подоконник: тук-тук?.. И вновь через какое-то время, но еще тише: тук-тук-тук… Знала сама, что ничего не дождется, но не могла и себе не давала уснуть накрепко. С утра ломило голову, в глазах клубился туман, и трудно было прокладывать прямой шов. Она и сама словно съезжала набок вместе с переполнявшими голову мыслями.
И недели ее изменились. Раньше всякое воскресенье начинало близиться неторопливо и постепенно, светло и покойно, и она ожидала его, чтобы снова идти лесом в церковь. Ибо уже само это движение — есть несение помыслов кому-то сущему там, вдалеке, незримому в мареве грезном. Несешь эти мысли, будто в каком-то шествии, хотя знаешь, что ты один. Донесешь, тихо возложишь к подножию, и станет тебе замечательно хорошо.
А теперь она чувствовала, что несет в себе прочный большой сосуд, в котором с самого понедельника копятся очень холодные и темные капли. Когда воскресным утром она выходила из леса и впереди вырастали две церковные башни, этот сосуд бывал уже переполнен. Она начинала дрожать, словно от холода, ноги слабели в коленях и ужасно разбаливалась голова.
Читать дальше
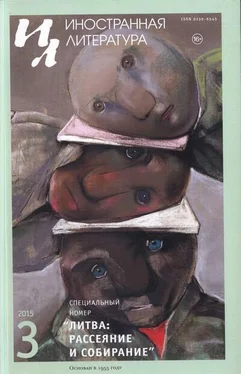






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


