После ареста Алика Гинзбурга появилось несколько самиздатских журналов, имевших целью продолжить традицию «Синтаксиса» (один из них символично назывался «Феникс», его выпускал Галансков). Я отдал в один такой журнал коротенький и не самый удачный рассказ, но без имени автора: речь там шла о военных сборах в Калининградском округе. Но все эти издательские усилия, как правило, кончались ничем.
Впрочем, существовал и другой вид самиздата — философская и политическая журналистика, сочинения того же Померанца — лучший тому пример. В своих глубоких, притом щедро сдобренных юмором эссе он разбивал в пух и прах даже не столько господствующую идеологию, сколько самое претензию установить некое окончательное, не подлежащее пересмотру мировоззрение. Мы читали ходивший по рукам очерк Жореса Медведева о судьбе русской генетики в лысенковские времена. Наташа Горбаневская однажды — кажется, позже — принесла ни много ни мало тогдашние лагерные записки — «Репортаж из заповедника им. Берия» [194] Валентин Мороз. Репортаж из заповедника им. Берия. Период появления в самиздате: 1966–1974.
. Кстати сказать, первым там шел рассказ, который просто перевернул мне душу, о судьбе одного литовца.
Э. Х.А как практически курсировали эти сочинения? Как они попадали к вам? Опасно ли было читать их и передавать другим?
Т. В.О собственно литературных произведениях власти не слишком беспокоились, хотя из-за них можно было угодить в черный список и вообще нажить себе неприятности. Понятное дело, многое зависело от содержания и общей тональности написанного: «чистое искусство» считалось декадентством, что влекло за собой «моральное осуждение», но сатирические вещи или исповедальные лирические сочинения о бессмыслице и трагизме жизни (как у Бродского или Горбаневской) могли квалифицироваться как антисоветские и, значит, — наказуемые. Ну, а сочинения политические — это уже был совсем другой коленкор. Опасно было не только размножать и передавать их, но и хранить дома, тут требовалась особая осторожность. В два счета можно было заработать тюремный срок. Но Бог миловал, мы с Мариной избежали столкновения с московскими властями — видимо, оказались достаточно осмотрительны.
Э. Х.Какие еще литературные открытия вы сделали тогда?
Т. В. Множество малодоступных книг хранилось в домашней библиотеке Леонида Трауберга, включая «1984», который я прочел по-английски с помощью словаря, и книга произвела на меня невероятное впечатление — может быть, большее, чем любая другая в моей жизни. Володя Муравьев снабжал меня англоязычными новинками: «Шум и ярость» Фолкнера, «Нагие и мертвые» Нормана Мейлера. Их я тоже читал в оригинале, преодолевая немалые трудности, поскольку мой тогдашний английский оставлял желать лучшего. (Володя Муравьев и Наташа Трауберг свободно им владели.)
В 1962-м мы с Мариной перебрались к Елене Васильевой, приятельнице Леонида Трауберга, которая сдала нам комнату. Елена, вдова одного из братьев Васильевых, создателей «Чапаева», была самиздатской машинисткой. Ее сын, мой ровесник Александр или Саша, отличался двумя непревзойденными талантами: это был самый запойный пьяница, какого мне случалось видеть в жизни, а по этой части, не стану скромничать, опыт у меня приличный; во-вторых, он был крупный книжный спекулянт, что надежно обеспечивало не только его, но и всех многочисленных его друзей разливанным морем водки. Саша знал всех и вся в московской богеме и полубогеме. Несмотря на алкоголизм, это был спокойный, бесстрастный, очень здравомыслящий человек с отличным чувством юмора, и мы сразу подружились. Книжные фарцовщики собирались неподалеку от Кремля, у памятника первопечатнику Ивану Федорову, так сказать, русскому Гутенбергу. Кстати, там же собирались и московские «голубые», к которым Саша не имел ни малейшего отношения — он любил женщин, и даже очень. Вообще-то подпольная книготорговля в Советском Союзе преследовалась по закону, но Саша был неуязвим. Думаю, между завсегдатаями Федоровского сквера и милицией существовала некая негласная договоренность. Сотни, а то и тысячи редких и запрещенных книг проходили через Сашины руки, и мне повезло — я прочел многие из них. Так что со временем я мог похвастать довольно основательным знанием русского модерна, известного как Серебряный век, что не только доставило мне немалую радость, но и пригодилось в будущем — в годы работы в Йельском университете. Кстати, с Андреем Платоновым меня познакомила Марина, за что я ей по сей день благодарен.
Читать дальше
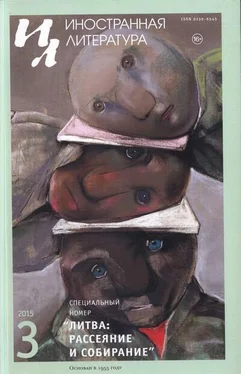






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


