В истории со спасенными картинами был забавный эпизод. Дело происходило 12 апреля 1961 года — в день полета Юрия Гагарина. Улицы были переполнены ликующими толпами с развевающимися знаменами и портретами космонавта. (Надо сказать, народное ликование было не в пример более искренним, чем в дни Первомая и тому подобных празднеств.) Два мальчугана, заприметив под простыней одну из наших картин в мондриановском духе, завопили: «Смотрите, вон еще Гагарина несут!». Девочка чуть постарше резонно возразила: «Что вы выдумываете? Может, это совсем и не Гагарин!»
Э. Х. Вы с женой были знакомы с множеством авторов подпольного искусства. Расскажите, что это было за сообщество? Где вы встречались?
Т. В.С иными из них (и в немалом количестве) можно было встретиться и у Померанца, и в доме Сусанны Раппопорт, где она правила самовластно. Хотя обе группы пересекались, имелось отчетливое различие: первая была не лишена богемности, вторая отличалась закрытостью и бонтонностью — между собой мы называли дом Раппопорт «У Вердюренов» (как светский салон у Пруста). У Померанца главными были Володя Муравьев, писавший антисоветские стихи, его брат Леонид, художник, и Николай Котрелев, тоже поэт андеграунда, впоследствии ставший известным филологом. «У Вердюренов», кроме Волконского и его приятелей, я познакомился с Андреем Синявским и женой его Майей или Марьей Розановой. Марина представила меня Дмитрию Плавинскому, Лидии Мастерковой и другим известным художникам московского авангарда, в том числе Эрнсту Неизвестному, который в ту пору входил в моду.
Здесь нельзя не рассказать о двух значительных личностях. В-первых, это поэт Геннадий Айги, чуваш по национальности. Он учился на одном курсе с Евтушенко и Ахмадуллиной, но потом его исключили из Литинститута за неисправимо модернистские стихи — «за ницшеанский бред», как гласила официальная формулировка. Сначала он писал на родном чувашском, но вскоре перешел на русский. В те времена он один на всю страну сочинял верлибры (даже подпольные поэты не отказывались от традиционных размеров и рифмы, которые, надо заметить, более органичны для русского языка). Выгнанный из Горьковского института, Айги нашел себе приют в Музее Маяковского, заведении довольно скромном, занимавшем квартиру знаменитого поэта, где тот провел свои последние годы вместе с Лилей Брик. Главным сокровищем Музея был архив, где хранились многие материалы русского футуризма. Айги был влюблен в футуристов (правда, не столько в Маяковского, сколько в Велимира Хлебникова и Алексея Крученых) и себя считал их последователем. Нельзя не признать, что в его поэзии немало от футуристов, но совершенно нет их агрессивности и подчеркнутого урбанизма; по духу своему это скорее религиозная поэзия.
Кстати, Крученых был еще жив — старый, без средств к существованию, он кормился продажей книг и рукописей; к счастью, начальство им мало интересовалось. Айги устраивал ему вечера. Помню одно такое чтение дома у Андрея Волконского. Это было нечто из ряда вон выходящее, потому что Крученых был не только поэтом, нарушавшим все правила грамматики и законы здравого смысла, но обладал к тому же незаурядным актерским дарованием. (Впоследствии он нередко бывал у нас на Кадашах, где галантно ухаживал за Мариной.) Среди прочего, Айги ухитрился устроить в каком-то захудалом Доме культуры выставку «Художники — иллюстраторы Маяковского». Среди этих иллюстраторов были классики русского авангарда Казимир Малевич и Павел Филонов, строго запрещенные в Советском Союзе, но уже гремевшие на Западе (и весьма дорого там продававшиеся). Помогая Марине вешать одно из полотен Малевича, я испытывал невероятную гордость: за последние тридцать с лишним лет то было первое публичное явление Малевича в Москве.
Волконский, который был дружен с Айги, помог ему наладить отношения с Францией, где поэзия Айги очень быстро обрела немалую известность. Само собой, о поездке в Париж не могло быть и речи, но его книги, выходившие по-французски, обретали множество поклонников, поскольку стихи Геннадия задевали знакомую струну — отчасти дадаистскую, отчасти сюрреалистическую. Все это, конечно, находилось под строгим запретом, но власть имущие предпочитали закрывать на славу Айги глаза. Что ни говори, его стихи были крайне далеки от политики. Ему удалось издать по-чувашски большой том французских модернистов, куда он включил Малларме, Оскара Милоша, Сен-Жона Перса, Рене Шара и десятки других поэтов, никогда не переводившихся на русский. Кстати говоря, на чувашском языке до выхода этой книги существовало одно-единственное французское стихотворение — «Интернационал». Иосиф Бродский (который отнюдь не причислял себя к поклонникам Айги) как-то заметил, что эта французская антология — один из величайших исторических абсурдов: на всю Чувашию, возможно, был один, ну, от силы — два человека, интересовавшихся сюрреалистами и дадаистами, тогда как в России жаждавших их прочесть были тысячи и тысячи…
Читать дальше
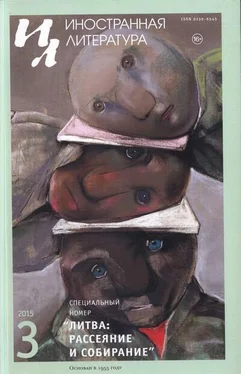






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


