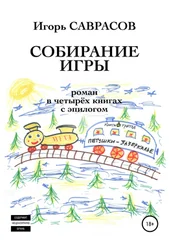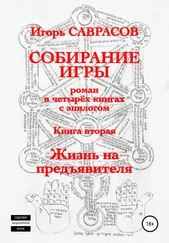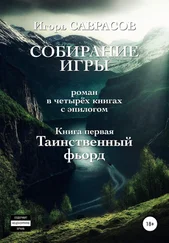Так сравнения усаживают мир на качели, и нет конца забавным аллюзиям.
Приехав в Литву, я тоскую по Кипру, а на Кипре тоскую по Литве, зная, что нигде не выживу, если буду пытаться быть киприоткой в Литве, а на Кипре — литовкой. Я уже не спрашиваю, как прежде, готово ли кипрское общество принять людей из других стран. Процесс пошел, и это — реальность. Вокруг видишь русские, китайские, арабские заведения, и уже становится редкостью официант, говорящий с тобой в кафе по-гречески. Ничто не стоит на месте, все меняется с потрясающей скоростью, но нет гарантии, что мир вновь не повернет вспять… Кипр уже космополитичен, и я живу в космополитичном районе. Аптеку неподалеку от моего дома держат египтяне-копты, от которых я узнаю последние египетские новости. Сирийцы напротив открыли овощную лавку и ресторан, деятельность которого в Европе узаконили путем женитьбы на латышках. Семейство иранцев открыло магазин ковров, болгарка торгует платьями, в хлебопекарне работают румыны, грузинка владеет химчисткой, в соседнем доме проживает француженка, ежедневно выражающая недовольство тем, как вывозят мусор. Собаку в парке выгуливает британка, говорящая сама с собой. А что уж говорить об Университете за углом, который в годы кризиса купили американцы и превратили в Центр дистанционного обучения. Там один только персонал двенадцати национальностей. Была по соседству и финка, что каждый год перебиралась в другую квартиру, но все на той же улице. «Зачем, — спрашиваю, — ты переезжаешь, если улица та же самая?» Она отвечает, что не может сидеть всю жизнь на одном месте. Возможно, для финки год на Кипре — это целая жизнь, а переезд в другой дом неподалеку запускает жизнь заново. На Кипре работала и моя юная подруга Моника из Клайпеды, выдающихся способностей менеджер. Она в одночасье решила, что на Кипре ей тесно: в три часа ночи еще плясала на дискотеке, а в семь утра уже улетела жить в Амстердам. Растворилась Моника, как в море ветер, оставив у моей двери шкаф из «Икеи»…
Это всего лишь декорации повседневности. Они, как новые технологии, как спорт или популярная культура, не различают национальностей, им безразличны происхождение или образование. В этих областях красота языка не так важна, как в науке, политике, литературе, куда иностранцев пускают редко и только за особые заслуги. Что же нас, странствующих профессионалов, не должны касаться эти важнейшие сферы? Или мы все же можем что-то изменить? Думаю, да, хотя нелегко войти в комнату, запертую на ключ. Изменения начинаются лишь тогда, когда люди сами начинают сомневаться и задаются вопросом, в правильном ли направлении они движутся, сталкиваясь с новостями и пришельцами из-за границы. Пока звучит «Нам хорошо, как есть», перемены будут принимать с трудом.
Перемены, которые мне довелось наблюдать на Кипре, происходили очень медленно, будто страна забылась сном, и вдруг, в одночасье, пролетели двадцать четыре года, пока я пила капуччино все в том же кафе за углом моего дома…
Томас Венцлова
Москва 60-х
Перевод с английского Тамары Казавчинской
Интервью
Эллен Хинси. В январе 1961-го вы уехали в Москву. С чем это было связано? С тем, что КГБ преследовал ваш независимый кружок?
Томас Венцлова. Я полагал, что в большом городе мне будет легче скрыться от всевидящего ока КГБ. И не ошибся: трения мои с властями были внутрилитовского свойства, у московского КГБ и без меня забот хватало, и особого интереса к моей скромной особе тамошние чекисты не испытывали. Во всяком случае, меня больше ни разу не вызывали на допрос или для беседы. Впрочем, у меня были и другие причины для отъезда, вызванные самим процессом взросления.
Э. Х.Не можете ли Вы хотя бы в общих чертах нарисовать картину Москвы того времени? Какое она произвела на вас впечатление, когда вы появились там зимой 1961 года?
Т. В.Ну, Москва для меня была не внове, я знал, например, ее музеи и театры, а они и тогда были, и теперь остаются одними из лучших в мире. Но любви к ней, как к Ленинграду — Санкт-Петербургу, я никогда не питал. Уж слишком она огромная и хаотичная. В одном стихотворении я сравнил ее с критским лабиринтом, который, в свою очередь, есть метафора Аида. Московская архитектура была либо византийского свойства (причем большинство церквей выглядели заброшенными, а то и полуразвалившимися), либо это была эклектика XIX века, в лучшем случае — стиль модерн, а я до него не большой охотник. Конечно, встречались кое-где приятные глухие уголки, — вроде, скажем, Кадашевской набережной неподалеку от Кремля, где я прожил несколько лет, — но почти все такие места были сильно попорчены домами сталинской постройки или конструктивистскими монстрами. Москва — город шумный, пыльный, зимой грязный от почерневшего снега. Почти все известные мне квартиры были отчаянно захламлены, лестницы расшатаны, с застарелым кошачьим запахом. Одевались люди бедно и провинциально (не без исключений, конечно). На всем лежала печать системы: с одной стороны, на каждом углу — милиция, у прохожих тусклые, напряженные лица, нередко помеченные страхом; с другой стороны — хамство и пьяные драки, от которых нельзя было укрыться, — во многих районах ходить по ночам, а то и днем не рекомендовалось. Магазины, в том числе и книжные (они-то интересовали меня больше всего), снабжались скверно, а если на прилавок «выбрасывали» что-нибудь стоящее — повторяю, книги тоже были дефицитом, — то все расхватывалось вмиг. В центре, правда, работало несколько приличных ресторанов — кстати сказать, цены там отнюдь не зашкаливали, — но туда попасть можно было только по блату, то есть по знакомству. В общем, царила скудость и серость, хотя не кричащая нищета. Кстати, почти все это я хорошо знал по Вильнюсу. Если Москва чем и отличалась, так это людьми. Но, конечно, нужна была толика счастья, чтобы выйти на того, кого надо.
Читать дальше
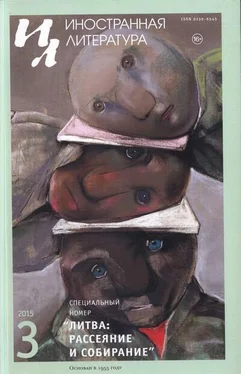
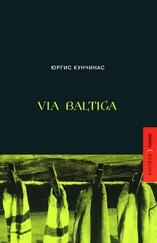

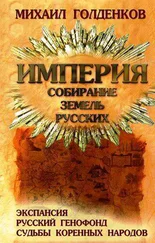



![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)