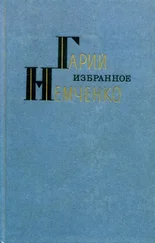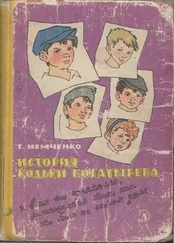— Здесь-то холодно, — мальчишка сказал. — Я, признаться, озяб.
— Слышь, — искал выход Громов, затравленно озираясь, — может… в кино?..
— А что за фильм?
— А черт его… а кто его, — поправился Громов, — знает… Не все равно?
Мальчишка, отступив на шаг вбок, из-за него, из-за Громова, посмотрел на рекламу, потом снова отодвинул пальцем рукав, взглянул на часы.
— Пожалуй, можно…
— Вот и пойдем. Айда! — Громов заторопился. — Тебя пустят… со мной, скажем.
— Я посмотрел, — сказал мальчишка. — Допускаются…
В дверь Громов прошел первым и опять запереживал, что не так, что мальчишку вперед не пропустил, и около касс, когда тот сунул руку в карман, заговорил с укором:
— Да ты чего?.. Чего ты?.. У меня нету, что ли?
И мальчишка стал у стены, опять постукивая ботиночками и опустив руки, а Громов засуетился в конце очереди, спрашивая крайнего, потом повернулся к мальчишке, неожиданно для себя подмигнул — мол, сейчас я, сейчас! — и перешел торопливо ко второй очереди, показалась ему поменьше, и почувствовал, что мальчишка смотрит на него, и снова, обернувшись, подмигнул.
Очередь подвигалась медленно, хотя до начала оставалось совсем немного, и он все оборачивался и, как ему самому казалось, глупо улыбался, пожимая плечами, и опять подмигивал, и сердясь на себя, и зная, что снова обернется. «А вообще-то бедненько живут, — подумал, в очередной раз оглядываясь. — Так… вежливый, хоть за пазуху, понял, сажай. А одежка не очень…»
И это его почему-то успокоило.
Мальчишку пропустили без всяких: наверное, в фильме и в самом деле ничего такого не было, ни поцелуев тебе, ни раскрытой постели, и Громов обрадовался про себя: а то как бы — рядом?
В фойе было людно, шумно, но это была чинная людность и вежливый такой шум, которые он уважал. На эстраде уже кончили играть, музыканты оставляли инструменты и, топоча, сбегали со сцены, народ повалил в центр фойе, и они друг напротив друга прижались плечами к белой, под мрамор, колонне, ожидая звонков.
Мальчишка рассматривал билеты, которые он попросил у Громова, — что там, непонятно, было для него интересного, — а Громов здесь, на свету, теперь исподволь глядел на мальчишку.
Худенький, в самом деле, в чем душа, каждая жилка на виске видна, и шея из-под домашнего шарфа такая слабенькая, а глазенками так серьезно — луп-луп! — будто только об умном и думает, это в свои-то тринадцать или сколько там ему на самом деле…
— Дак тебе аппаратуру — батька небось? — спросил Громов, понимающе улыбаясь.
У мальчишки светлые бровки кинулись вверх двумя черточками, в серых глазенках промелькнуло что-то вроде испуга.
— Н-нет, — сказал негромко и покачал головой.
— Сам? — снова как будто не поверил Громов. — Такую аппаратуру? — и опять подмигнул. — Ба-атька!..
— Н-нет, — тихонько повторил мальчишка и как будто задумался. — Я живу в детском доме…
Громов смутился, подряд была какая уже неловкость, и этой он хорошо знал цену, потому что когда-то его так же спрашивали самого, только он отвечал со злой лихостью, как будто даже гордился тогда, что сирота, смутился и вместе с тем растрогался, тепло поднялось в душе к этому пацану; ему захотелось тут же защитить его неизвестно от чего.
— Я и сам, понял, — сказал он, снова подмигивая, — тоже с детдома… Как вспомнишь!.. — И совсем по-свойски: — Домашников лупите?
— Каких «домашников»? — удивился мальчишка.
— Ну какие в школу ходют вместе… только из дому, у каких семья есть. Понанесут сала!.. Вот такие шманделки.
— Что-что? — наклонился мальчишка.
— Шман… кы-хы!.. кы-хы! — закашлялся Громов. — Ну сало, одним словом… Куски — во! В сумке принесет. И как будто нарочно раскроет…
— А я и не люблю совсем сало, — сказал мальчишка и почему-то повеселел.
— Того ты и худой, — уверенно объяснил Громов. — Я тебе точно!
— Да нет, — сказал мальчишка и даже тихонько рассмеялся, как будто Громов шутку какую сказал. — Ну при чем тут сало? Просто конституция такая.
— Чего? — удивился Громов.
— Конституция, — объяснил мальчишка. — Такой я есть — и все… Марья Эдуардовна со мной замучилась. «Хоть корми, — говорит, — хоть не корми…»
— Конституция?..
— Ну да!
Громов недоверчиво хмыкнул — нет, ты понял? Раньше таким соплестонам в детдоме — уж не в колонии — вообще было нечего делать: затравили бы…
Но, подумав так, застыдился, будто он сам затравил бы.
Только тревога за Витальку не проходила, и он спросил:
— А так… никто тебя? Ни с кем там не дерешься?
Читать дальше