Насколько я знал, Зазвонов сидел на даче, под организованным сыночком домашним арестом, на звонки отвечал специально приставленный человек, который спрашивал Зазвонова-младшего — звонит такой-то такой-то, соединять? — соединяй! — отвечал сынок или — дай отбой! или — пошли на хуй! — и специальный человек в точности исполнял приказ. Меня соединяли. Я лишнего не говорил, скользких тем не касался — о здоровье, о внуках — у этих, потомков расстрельщиков, нынешних хозяев, сперма была крепка, их бабы с выпуклыми взглядами поросились как заведенные, — лишь иногда — о временных трудностях, о том, что неплохо бы поднять пенсию, на что Зазвонов-старший всегда отвечал, что ему-то поднимать не надо, у него пенсия нормальная, хватает, ему — хватает, да ему-то мало теперь надо, ну внучкам — как он меня доставал этими внучками! — что-нибудь, да массажистке подарить что-то — та разминала дряблые — мне так хотелось думать, что дряблые, — зазвоновские мускулы, да иногда, говоря, что, если узнают, она потеряет работу — да знали кому надо все и записывали их сеансы, уж Зазвонов-младший обязательно просматривал, — причитая — мол, какой вы шалун! — разряжала моего командира танка, а тот еще хвастался передо мной — ты представляешь, как я сегодня стрельнул! на плазменную панель попало, а она от кушетки метра полтора! не веришь? да я тебе говорю!
Бульон закипает, а я успокаиваюсь. Открыв кухонный шкаф, беру большую тяжелую бульонную чашку с двумя ручками, ее и висящее напротив вешалки в прихожей небольшое венецианское зеркало бабушка забрала из киевской квартиры Григоровича-Барского; уезжая из Киева навсегда, тот просил забрать как можно больше ценного, не оставлять ни большевикам, ни жовто-блакитным, просил сжечь архив, это дед и бабушкин брат Аркадий сделать успели, но большинство вещей досталось все-таки какому-то комиссару; были часы, проданные соседке Алифатовой, был еще бронзовый подсвечник, его бабушка продала в середине шестидесятых, оценщик в комиссионке предлагал двадцать пять рублей, убеждал — это предел, — но бабушка знала цену подсвечника, французская работа начала XVIII века, идеальное состояние, сейчас наверняка стоит на столе у какого-нибудь топ-менеджера, у нее была грошовая пенсия, не хотела брать деньги у Шихмана, а надо было помочь подругам, таким же вдовам расстрелянных, у которых пенсия была еще меньше; заказывала надгробие для Мышецкой, добилась, что на надгробии было написано «княжна», это вызвало скандал, директора кладбища хотели уволить, и даже не за «княжну», а за то, что на кладбище образовалась целая аллея «бывших», один из гробокопателей, лишенный пенсии сержант МГБ, написал — это в крови, передается дальше воздушно-капельным путем — донос.
Ире нравится кружка. Не обжигаясь, она пьет только что кипевший бульон, разглядывает рисунки на кружке, снаружи и, искаженные зеркальцами жира и паром, внутри. Человек любого возраста, ориентации, пола, близкий или далекий, может в какой-то момент проявиться трогательно, по-доброму. С кружкой в руках, жмурящаяся от удовольствия, Ира похожа на маленькую девочку.
— Ты давно освободилась? — спрашиваю я.
— Недели две, — она вытирает губы тыльной стороной руки и говорит, что ей некуда было пойти, родные, те, кто еще не уехал, видеть ее не захотели, она решила поехать к сестре Максима и теперь живет у нее.
Максим! Знакомое имя! Слишком знакомое. Чтобы выдержать паузу, я и себе наливаю бульона, вспоминаю про сухарики, ставлю вазочку с ними на стол, предлагаю сыпать сухарики в бульон, Ира деликатно берет по одному, я захватываю щепоть, кидаю в свою кружку. Максим! Его выдали сербы-братушки, у которых он пытался пересидеть, судили как идейного вдохновителя, организатора и руководителя всех членов Ратного союза, он получил пожизненное. Ира была его девушкой, Илья познакомился с ней на собрании кандидатов в члены Союза, влюбился, Максим дал поручение с Ильей поработать — и пошло-поехало.
Я помню, как Илья появился у меня — я думал, вновь для тягучих разборок, для упреков, для попыток доказать, что он-то — другой, что в нем гнилая кровь не чувствуется, что в нем здорового больше, — а он, мой сын, приезжал поделиться чувством любви и вдруг неожиданно начал разговор о том, что и в нем, и в Ире четвертушки еврейской крови составляют ту гармонию, которой жаждет его душа, что если у них родится сын, то в нем составится половина и это будет идеальное творение. Я спросил — значит, когда речь идет об Ире, то кровь перестает быть гнилой, так, что ли? — Ну, ты же понимаешь, что я имею в виду! — Не совсем, но скажи: у вас уже дошло до деторождения? Может, вы уже выбираете имя для ребенка?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


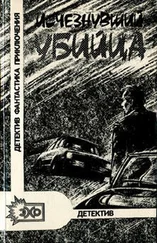



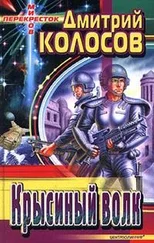


![Алексей Головенков - Крысиный король [litres]](/books/384715/aleksej-golovenkov-krysinyj-korol-litres-thumb.webp)


