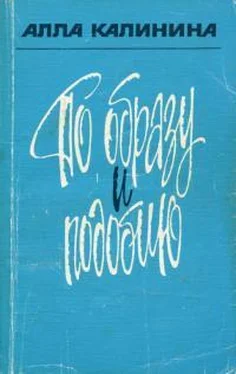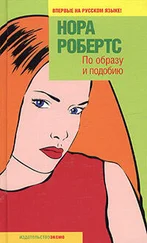— А я вам звонил, тетушка, — соврал я, — да все как-то не мог дозвониться…
— Погода хорошая, — беспечно отмахнулась Сима, — я гуляю. Ну как, был у Валечки? Как он тебе показался?
Я развел руками в том смысле, что как же мог Валечка и не понравиться. Но старухе такие штуки не нравились.
— Ах ты, — сказала она, — все шутишь. Ну, шути, шути. Деньги-то достал?
— С деньгами я обошелся, это на меня помрачение нашло, не нужны мне никакие деньги, и не за ними я к вам хожу…
— Это-то мне понятно.
— Вот и хорошо, ну, пожалуйста, расскажите мне что-нибудь еще.
— Откуда начинать-то? — спросила она насмешливо, тяжело сползла с лавочки и заковыляла к подъезду. Я видел, что настроение у нее портилось прямо на глазах, только позже я понял почему. В этот день она рассказала мне о себе.
— Ты знаешь, сколько времени прошло и кости их давно в земле, а я не могу простить, и не прощу, и забыть не смогу до самого своего смертного часа, потому что нельзя, чтобы человек родился и знал, что он никому не нужен, что он лишний и нежеланный, не по-христиански это и не по-человечески. А у мамы уже был Михаил, любимец ее, гордость, да три девочки, и вот решила она, что я не нужна и надо меня вытравить, пока я не родилась. В бане парилась, порошки какие-то пила, своего не добилась, а меня на всю жизнь сделала калекой… Как это, по-твоему? Может мать так поступать? Я с самого детства, сколько себя помню, знала, что я урод. С носоглоткой было у меня не так, зубы росли не так, форма черепа неправильная, но и это не все. Главное, что-то у меня получилось с кровью, врачи, как посмотрят на мой анализ, прямо за голову хватались, уверяли, что ошибка вышла и такой крови быть не может. А я ничего, жила. Я, если хочешь знать, по дому всю черную работу делала, семья большая, родители, шестеро детей, а потом, когда Миша женился, еще Раечка с Эдиком, это уже десять человек, а прислуги — одна кухарка и удобства не такие, как теперь. И весь этот воз я, считай, что одна везла, барышням не до того, у барышень наряды, удовольствия, а меня мама давно поняла, что с рук не сбудешь, так и стараться зря не стоило. Да еще и Саша у меня на руках, ведь это я его вынянчила. И вот что интересно, Саша ведь родился после меня, а его они не травили, посмотрели на меня и испугались, или стыдно стало, не знаю, только он такой здоровенький родился, такой крепкий, хоть и поскребыш. И вот посмотри, что выходит, получается, что это я ему здоровье спасла, если бы не я, вся та отрава ему бы досталась, а после меня не посмели они. И я потом так рассудила, не хочешь детей иметь — не блуди! Грех так про родителей своих думать, но что еще-то скажешь? Это сейчас у вас все просто и кажется вам, что тут и греха-то никакого нет. Но это ваша ошибка, грех есть, он от ваших замечательных порошков и таблеток и деться-то никуда не мог, вы его просто вглубь загнали. Разве теперь у вас семьи? Одно затурканное чадо да блуд на обе стороны, для семьи маловато выходит, вот и разбегаются все, разбегаются. Семья-то, она задумана не для удовольствий и развлечений, а для воспитания потомства, понял? И не фыркай, не фыркай, думаешь, я в этом ничего не понимаю? Ошибаешься, в меня эта наука через мою гнилую кровь навсегда вошла, да.
Ну, а из всех своих братьев и сестер я, конечно, Сашу больше всех любила, мы с ним ближе были, вместе в школу пошли, он один меня не стыдился, заступался за меня, он и не догадывался, что я урод, не видел этого. Слишком он близок ко мне был, ему это и в голову не приходило. Нет, ты не думай, мы и ссорились, и дрались, и вырваться ему хотелось из-под моей опеки, но это все по-другому было, не так, как с сестрами, которые стеснялись, что я их сестра, и прятали меня от своих женихов. А уж про Мишу я и не говорю, он на такой высоте был, что, кажется, и не знал про мое существование, я как микроб перед ним была. А впрочем, он и к Саше был равнодушен, он весь был в себе и в своих науках.
Вот так я в обидах и росла. Ты не думай, маму с папой я очень любила, это они мне не отвечали, а я-то так любила, что сердце рвалось на части. Я и сейчас их люблю и все помню, память моя проклятая ничего не выпускает, каждое слово помню, и каждый взгляд, и каждую обиду. Я и дни рождения их и дни смерти обязательно отмечаю, все вспомню, наревусь досыта, до могилок-то мне не добраться, они в Ленинграде похоронены, до войны я ездила, а потом потерялось все, я раз искала, даже камней не смогла найти. Конечно, война, и кладбище то закрыли, больше там не хоронят, а все-таки скажи мне, ну почему к ним никто, кроме меня, больше не ходил, почему? Неужели я помню только потому, что больно было, а было бы сладко, тоже бы забыла? Неужели так? Теперь-то, если бы и были могилы, мне бы все равно не доковылять, поплачу и живу дальше, что мне? Я молчать с детства привыкла, с детства знала, что жизнь — вещь жестокая. Если я выжила, то только потому, что сдаваться не хотела, а решила для себя: буду бороться, пока силы последние есть, не сдамся. И вот, гляди, до седых волос так и протрепыхалась. А жизнь моя была — упаси бог, врагу своему такой не пожелаю.
Читать дальше