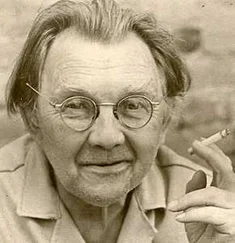К тому же служебная «волга» Маврова попала в аварию. Поломка машины удручала его куда больше, чем серьезно пострадавший шофер (тот через неделю встал на ноги, а вот машина едва ли когда-нибудь встанет на колеса). Пришлось интимные встречи перенести в самое сердце предприятия. Теперь Мавров и Дафи оставались после работы, якобы для того, чтобы подработать какие-то планы и документы, — предлог, стершийся от употребления. Уборщицы и вахтеры вертелись у кабинета, хихикая и перемигиваясь. Кроме того, многие служащие пользовались случаем, чтобы решить с дирекцией свои служебные и личные дела, и до тех пор не оставляли любовников в покое, пока Дафи не уходила домой.
Тогда они решили встречаться с двенадцати до часу, во время обеденного перерыва, когда служащие спускались в столовую. Для этого потребовалось безрассудство, которое поэты вдохновенно называют «безумством храбрых», самоотверженностью во имя любви и еще бог знает чем, толкая влюбленных на излишние страдания и жертвы. По мне, так лучше бы они стали каким-то образом невидимыми, чем безумно храбрыми, потому что нервы Маврова и без того были на пределе, и первое время он походил на пуганого зайца, который все время прислушивается и при первом же шорохе готов дать стрекача. Дафи же наоборот — была спокойна и весела. Больше того, на нее то и дело нападал беспричинный смех. Это ее поведение не настораживало Маврова, а успокаивало.
Итак, в то время как все живое изнывало от июльского зноя и задыхалось от тяжкого, прокуренного воздуха, наши влюбленные изнывали от любви и не только не испытывали недостатка в чистом воздухе, а, наоборот, плотно задергивали шторы в кабинете и затыкали замочную скважину.
Тем временем Станиш, скрытый газетным киоском, часами простаивал на противоположной стороне улицы, по-бараньи уставившись в окна директорского кабинета. Иначе и быть не могло, ведь должен сложиться традиционный треугольник, без которого невозможна настоящая любовная драма. Может быть, благоразумие супруги Маврова в том и состояло, что она не пожелала принять непосредственное участие в этой истории и тем самым не позволила образоваться четырехугольнику, который уравновесил бы стороны и смягчил бы силу возмездия провинившимся супругам — недаром же любовный четырехугольник не нашел отражения в мировой драматургии.
Как все мы, прекрасно зная, что когда-нибудь умрем, все же отказываемся в это поверить, так и Станиш, зная, что Дафи ему изменяет, все еще в это не верил. Его «недоверчивость» объяснялась не столько страхом потерять Дафи, сколько — прежде всего — каким-то первозданным стыдом, нравственно-этическим началом, унаследованным таинственным образом от пращуров. Анонимные доброжелатели, с ревностным усердием осведомлявшие его о ходе измены, к сожалению, оказались правы. В отличие от Отелло Станиш испытывал ненависть не к подлинной виновнице его страданий, а к ее возлюбленному. На него-то он и направил свой гнев. «Дань Востоку!» — сказал бы верный себе Остап Бендер, но в сердце великого комбинатора жила лишь хрустальная мечта побывать в заветном Рио-де-Жанейро, и он неспособен был понять, что значит страдать от попранной любви.
Станиш несколько раз осторожно посоветовал жене перейти на другую работу, намекнув, что люди злословят, будто у нее шуры-муры с директором. Но Дафи беспечно отвечала, что ни шур, ни мур у нее с директором нет, и при этом смотрела мужу в глаза и от всего сердца смеялась. Станиш окончательно убедился, что Дафи свихнулась и «свихнул» ее не кто иной, как директор, воспользовавшись при этом служебным положением или, может, даже силой (иначе трудно было представить, чтобы она добровольно отдавала свою молодость и красоту пожилому семейному мужчине и не где-нибудь, а посреди кооперативных полей или — еще хуже — в самом сердце предприятия с большим штатом рабочих и служащих). Когда Станишу удавалось это представить, его охватывало не столько чувство ревности, сколько стыд, ужас и какое-то липкое, неотвязное чувство омерзения. И он пошел к Маврову — не для того, чтобы мстить, а чтобы высказать ему в лицо, что он развратник, опозоривший красивую женщину, превративший ее в потаскушку. Может, Станиш даже самому себе не хотел признаться в ревности. Но, во всяком случае, таковы были его намерения, когда он шел по улице, а потом по длинному коридору третьего этажа. Он собирался разить словами и не прихватил с собой ни кинжала, ни вообще какого-либо оружия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу