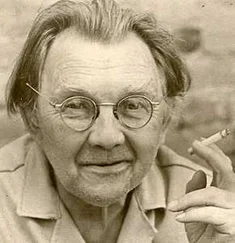Он подошел к окну и стал смотреть во двор, ожидая, пока остальные расплатятся. Но, обернувшись, увидел, что все по-прежнему сидят на своих местах. Фока переводил взгляд с него на остальных, а девушки возились с лебедем, пытаясь засунуть ему в клюв крошки. Бат Стоян кивнул мне, и я взял птицу и отнес ее в багажник. Когда вернулся, учитель говорил:
— Не хочу охотиться на кабанов. Здесь я себя лучше чувствую.
— Мы к тебе не привязаны! — вскипел бат Стоян. — Обойдемся и без тебя.
— Еще бы не обошлись!
Учитель завелся: если бат Стоян что-нибудь говорил, он отвечал в два раза дольше, будто давно за что-то злился на него. Вроде интеллигентный, а противный оказался человек. Увидев его охотничий домик, сразу можно было понять, какой он заядлый охотник. У него и плитка там, и кровать, и столик для работы. Как-то пошел я к нему вечером пострелять диких уток. Он принес тетради, сидел и проверял их. Услышит кряканье на болоте, погасит свет, выстрелит в амбразуру — и снова за тетрадки. А теперь вот взъелся и не хочет вылезать из-за стола. Учитель есть учитель, это понятно, что с него возьмешь, но лейтенант был еще противнее. Человек военный, любому приказу козыряет, а тут взял да и заупрямился. Хотя сам без ума от кабаньей охоты. Должен тебе сказать, тезка: упрямство — настоящая болезнь. К тому же заразная. А такого упрямства, как у болгар, нигде не сыщешь! Болгарин, если заупрямится, кепку свою съест вместо пирога, но того, что ты просишь, не сделает. Чтобы бат Стояну возражать? Да ему в этом городе до сих пор никто не смел слова против молвить. Это же, браток, ни на что не похоже! Бат Стоян вскипел, скрипит зубами, никогда он не уступал другим. Я подумал, как гаркнет сейчас: «Встать!» Но он повернулся ко мне и говорит:
— Заводи мотор!
Когда мы подошли к машине, лебедь задергался. То крылом, то ногами бьет так, что вот-вот крышка багажника отлетит. Бат Стоян схватил птицу за шею да как размахнется — и зашвырнул ее в противоположный угол двора.
— Поехали, — говорит, — а те пусть возвращаются как знают.
Еду назад, а сердце у меня в комок сжалось. Примет меня Пепа или прогонит? Оставляю бат Стояна у его дома, еду прямо к ней. Звоню, она открывает. Весь похолодев, стою на пороге и не знаю, что сказать.
— Прошу! — говорит она.
Вхожу в коридор, сам не знаю зачем. Душа полна, а руки пусты. Пепа придвигает мне стул, садится напротив. Какая у нее прическа, а какая шея!.. О мини-юбке и говорить нечего. Взглянул я на ее ножки, и стало мне хорошо. Знаешь, тезка, впервые было мне хорошо только оттого, что просто смотрел на женщину. И тогда же все ей и рассказал:
— Упрямые люди, душенька, упрямые люди! Если б я даже ружье на них поднял, все равно бы не поехали они охотиться на кабанов. Для тебя, лапонька, я бы десяток гор перевалил, да из-за них, из-за этих упрямцев…
— Ну ничего, — отвечает она и смеется. — У меня все равно сегодня гости будут. А вечером сестра придет.
Обманула. По глазам понял, что обманула. У нее и сестры-то нет никакой. Но и у меня ведь не было мяса дикого кабана…
Проводила она меня до двери, да так все на этом и кончилось…
А теперь, тезка, скажи, кто ты и откуда?
Перевод Михаила Роя.
Благостность нисходит на душу всякий раз, когда я вхожу в выставочный зал. Для меня это всегда храм, по которому разлит мягкий свет: здесь празднично тихо и торжественно, здесь священнодействует искусство, властвует его дух. Здесь все — совершенство, а вместе с тем — что-то и не досказано до конца. В каждой краске — жар великой неудовлетворенности таланта, каждая рама замыкает своими пределами множество страстей и сомнений, отражающих верность правде и приверженность иллюзиям. Какое наслаждение быть лицом к лицу с этим многокрасочным хаосом жизни! Проникать за видимое на холсте, в таинство творчества. Благоговейно преклоняться перед великим мастерством художника, благодарить его за испытываемый восторг, за внушаемую им веру в то, что и во мне жива частичка Бетховена, Пушкина, Моцарта…
Вот и мое детство — это ведь сон. Сказка, в которую я уже не верю, подробности которой уже стираются в памяти. Порой охватывает неуемное желание взрыхлить толстый пласт времени, проникнуть к корням иллюзорного детского счастья, добыть хоть один глоток из источника моей жизни. Я пытаюсь, но тщетно. Чем больше жажду я этой целительной влаги, тем туманнее видится она в синем далеке десятков лет.
А художник способен дать мне ее — чистейшую капельку, в которой высвечивается все мое детство.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу