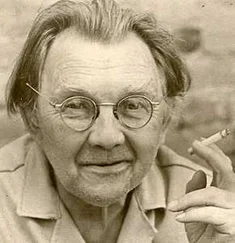И получилось так, что я сам начал искать Лживого и приставать к нему. Чаще всего я находил его в поле. Пустит ли Лживый куда-нибудь пастись свою скотину, я и нашу веду туда. Постепенно я стал его добровольным пастухом, и Лживый платил мне за это своими выдумками. Они терзали мое воображение, ночами я не спал, точно сомнамбула, но я слушал Лживого и наслушаться не мог. Как и прежде, я ни с кем не делился его россказнями, ревниво храня их для себя, словно какую-то бесценную сладкую отраву. Так Лживый открыл мне золотые ворота сказочного мира, полного небылиц, одна невероятнее и загадочнее другой. Я скитался по необъятным просторам этой вселенной, подолгу не в силах вернуться к действительности, и сам тоже становился как бы недействительным… В то время, кроме букваря, у меня не было, да и не могло быть других книг, и уже много позже я узнал, что Лживый не рассказал мне ни одной лжи. Просто вместо робинзонов, разных кораблекрушенцев и индейцев насытил он детское мое воображение своими собственными вымышленными героями. И если б я попытался поблагодарить Лживого за чудесную его ложь, он, вероятно, меня бы не понял.
Перевод Валерия Сушкова.
Иногда я думаю, что человек может рассказать о первых впечатлениях своей жизни, о своем детстве каким-нибудь цветом, запахом, ощущением. Конечно, это определение не может быть точным и исчерпывающим — оно как заглавие произведения.
Мне кажется, если придется как-нибудь озаглавить мое детство, то оно будет называться Безводием.
Пока я не пошел в гимназию, я не видал ни реки, ни моря, не представлял большего количества воды, чем болото. Оно наполнялось ливневыми дождями и в сухое лето пересыхало всего за две недели. Из этого болота пил сельский скот, в нем купались в сильную жару буйволы и свиньи, а также и мы, дети. Вечером мы возвращались домой, перемазавшись грязью, совсем как молодые буйволята. Волосенки, уши и носы у нас забиты были тиной, и вечером наши вернувшиеся с поля усталые мамы и мыли нас — и драли одновременно. Болото находилось на восточном краю села, у дома деда Каракаша. По-турецки это прозвище значит «чернобровый», а дед Каракаш был настоящим альбиносом и притом самым толстым человеком в селе. Из-за своей полноты он не был пригоден для работы в поле, а потому в летнюю жару время проводил в саду, в тени огромного ореха. Каракаш возлежал на пестром домотканом одеяльце или сидел, прислонившись к стволу ореха, обливаясь потом, раздобревший, как подошедшее тесто, но ему и в голову не приходило распоясаться или снять с головы овечий колпак. В то время наши старики считали, что если они развяжут свои пояса или поснимают колпаки, то им поясницу «прострелит», или солнце в голову «ударит». Такое предубеждение имели они и к купанию. Понятие «баня», ясное дело, было им неизвестно, и на купание они смотрели как на что-то «городское», то есть неприличное и постыдное. Один старик, наш сосед, не упускал случая порассказать, не без явной самоиронии, что купался он всего лишь раз в жизни, во время первой мировой войны, когда при форсировании реки Черной он потонул в воде по шею.
Сидя под орехом, дед Каракаш время от времени кричал нам, чтобы мы не мутили воду для скота, а иногда даже мог доплестись до ограды и грозил нам палкой. Мы поступали ему наперекор, вопили как полоумные и ныряли в тину с таким остервенением, что превращали воду болота в настоящую кашу. Старому, непомерно располневшему человеку дело было не только до сельской животины. Он наблюдал, как мы прохлаждаемся в этой каше, а потом в один прекрасный день утащил нашу одежку. В тот день мы оставили ее у колючей ограды, да еще и у самого прохода. Дед Каракаш, как стало потом известно, прокрался к ограде коноплей, росшей в его саду, протянул руку, прихватил нашу одежонку и унес ее домой. Лишь вечером, когда похолодало и пришло время уходить, мы обнаружили, что наших штанишек и рубашек нету. Сначала подумали, что это пошутил кто-нибудь из ребят, и не слишком обеспокоились. Сбились в кучу, смеялись и спрашивали друг дружку о том, как мы вернемся по домам, если тот, кто забрал нашу одежку, не вернет нам ее до наступления темноты. А так оно и случилось. Солнце уже склонилось к закату, а мы, двенадцать мальчишек, еще стояли голые, не смея отойти друг от друга. С полей возвращались жницы, сворачивали с дороги, распрягали скотину и вели ее на водопой, к болоту, где наша голая дружина была вынуждена отступать на пустовавшую поляну, поросшую по краям сухими колючими кустами и чертополохом. Мы прятались там, пока не село солнце, а потом, исколотые и отчаявшиеся, стыдно не стыдно, но решили возвращаться по домам. Мы рассыпались в разные стороны и с боязливостью — естественной для голых людей — отправились по домам. Я пошел вместе со своим дружком, с которым мы были еще и соседями. Добрались до ихнего сада, перескочили каменную ограду и не успели еще и приземлиться, как какая-то женщина страшно взвизгнула и сломя голову бросилась к дому. Это была мать моего дружка, собиравшая к ужину черные бобы. Увидев в сумерках, как двое голых мужчин кинулись к ней через забор, она «едва с ума не сошла». Спустя минуту со стороны дома прибежали отец, брат и дед моего приятеля с вилами и топорами, кто знает, что бы с нами произошло в темноте, если бы мой дружок не закричал из огорода: «Папа, это мы!..»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу