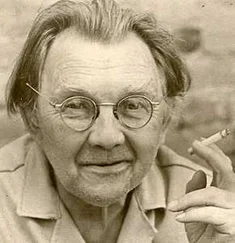Однажды, зимним утром, дедушка разбудил нас необычайно рано. Так забарабанил большими своими угловатыми кулаками по оконной раме, что иней со стекла посыпался.
— Вымерли, что ли? Вставайте!
Проснулись папа с мамой, зашевелились и мы с сестренкой. Взяв в охапку верхнюю одежду, перебежали в соседнюю комнату. Там было тепло, хорошо. Бабушка и тетя, вставшие еще раньше, торопливо стряпали у плиты. Мама тоже к ним присоединилась, и все три женщины принялись за дело, будто в доме намечался большой праздник.
Тетя помогла нам одеться, погладила по головкам, усадила возле плиты.
— Хотите кушать, мои родные? Давайте, кушайте! Тетя вам тюрю приготовит…
Она волновалась. Ее яркие голубые глаза блестели радостно и тревожно. Она не давала нам спокойно поесть: то сестричку ущипнет за щечку, то меня пощекочет.
— Мама-а-а! Сегодня рождество, что ли? — спросила моя сестричка, а женщины засмеялись.
— До рождества еще далеко-о-о! — ответила мама и вытерла ей носик. — Сегодня тетина помолвка. Сваты к нам придут, а ты такая неопрятная! Ешь, уж после надену на тебя новое платье.
Сестренка неумело загребала из миски большой деревянной ложкой, проливая половину тюри себе на рубашку.
— Теть, а ты как помолвишься? Что будет, когда тебя помолвят, а, тетя?
— Будет свадьба, лапушка моя, и уйду я к другим людям, стану тетей другим детям.
Блестящие глазенки моей сестры уставились на тетю, нижняя губка вздрогнула, и она вдруг пискляво заголосила на всю комнату.
— У-у, писклявая волынка, снова свое завела! — ласково пожурила ее бабушка, взяла на руки и начала успокаивать. — У тети помолвка, а ты плачешь! Ну-ну, помолчи. Тетя тебе подарит рубашку новую. Ай, какую хорошую рубашку! Пойдем, бабушка тебе ее покажет, она в сундуке, где тетино приданое. Идем, идем, идем…
А мне было так радостно: у нас будет свадьба! Я выскочил во двор и тут же по грудь утонул в глубоком пушистом снегу. Я делал снежки, бросал их, но они рассыпа́лись на лету. Было тихо, легкий морозец щипал мне ноздри, когда я глубоко вдыхал воздух носом. Солнце всходило. Лучи его были красными, мягкими, и я спокойно стоял и смотрел на него не мигая. Круглые пушистые сугробы, высотой почти с дом, разгорались, становились медно-красными. Дедушка и папа расчищали дорожку к воротам. Я бежал по ней к дедушке, но он замахивался на меня лопатой, и я бежал обратно. Из дома вышла бабушка, остановилась у двери и тихо, будто боясь, как бы соседи не услышали, позвала дедушку. Воткнув лопату в снег, он подошел.
— Люди вот-вот придут, а нам их и встретить нечем, — сказала бабушка. — Курицу бы хоть зарезал!
Дедушка нахмурился, посмотрел ясными голубыми глазами на небо, пробормотал:
— Курами их тут еще корми! Можно подумать, без курицы не обойдется!
— Ух, господи, всю душу мне измотал этот человек! — простонала бабушка, хлопнув себя ладонью по бедру. — К тебе люди придут, человече божий! Скряга несчастный! К твоей же дочери свататься придут!
Дедушка протянул вперед свои большие дрожащие руки, стал их потирать — это был признак того, что он колебался.
— Твоя дочь что — и курицы не стоит? Как начнешь мне душу-то мытарить, так лучше бы гром поразил, — заплакала бабушка.
Дедушка нехотя потащился к курятнику. Чуть позже появился с петухом, неся его за жилистые ноги. Стекавшая кровь оставляла алый след на снегу.
— На! — сказал он бабушке. — Еще неизвестно, как дело-то пойдет, а она для них курицу готова зарезать. Ладно, пусть петуха лопают. Он и без того не ладил с молодым петушком, да и к соседям бегал. Гляди, угодил бы в чужую кастрюлю!..
Скупым был дедушка. Даже в праздник зарезанной курицей женщинам глаза колол. Знал, сколько старых и молодых кур было в курятнике, сколько петушков, помнил их привычки и приметы. И вправду, мало их у нас было, и они мало неслись. Летом яйцо полагалось только больному, а остальные дедушка менял то на соль, то на керосин, то на другие какие мелочи. Он сам чинил и точил мотыги, серпы и косы. Садился у амбара, поджав под себя босые ноги, ставил перед собой огромную гильзу от снаряда вверх дном и начинал по ней стучать. Эту гильзу, весом в семь кило, дедушка принес с самого Одринского фронта. Когда отпустили домой, он положил ее в рюкзак и притащил в село, чтобы сделать из нее наковальню.
Тяжело жил дедушка, и все его вещи тоже были тяжелыми: и его мотыга была с молотилку, и коса его была грубо поточена, и серп, и деревянный ухват для колосьев — все было старым, ржавым, самодельным. Но дедушка ни на что не жаловался. Одежду носил до дыр, дома обеда никогда не просил. Был целый день в поле и обходился куском хлеба и двумя луковицами. Обычно он шел на покос, пока остальные жали нашу пшеницу, а потом торопился на чужие поля. Он возвращался затемно, брал краюху хлеба и лез на алычовое дерево у гумна. Каждый кусок он заедал алычой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу