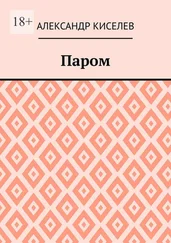За ним всюду следили два марокканских пацана.
Он видел их днем и ночью.
Они рыскали на краю площади в Грасии.
Долговязые, лет двадцати.
Он не сомневался, что их подослала Карима.
Они сейчас на нас смотрят, Ремик? Я, блин, только об этом спрашиваю.
Но я не вижу, про кого ты!
Про двух сраных марокканцев!
Никого я не вижу.
А ты глаза разуй, блин.
В кафе он быстро разворачивался и, может, заставал краем глаза, как они мелькают обратно в тень снаружи. Вот с чем приходилось иметь дело. Куда он ни ходил, везде чувствовал их рифские глазенки между лопаток – как гребаные ножи. Вот еще одно место, откуда ему придется сняться, – Барселона, 2003 год.
⁂
Он разучился говорить с людьми. Слишком долго жил вне родного языка. Терял слова. Это было в городе внутренней жизни. Это было лиричной зимой Сеговии. Он любил Дилли и Синтию. Он больше не мог их увидеть. Перед интернет-кафе цыганенок со своей подружкой торговали с печи на колесах каштанами в корзинках и целовались. Выглядели они так, будто на дворе 1583-й. Воздух был темно-синий и в сумерках подергивался дымкой старой поэзии. Морис больше не притворялся, что дочка когда-нибудь прочитает веселые строки, которые он карябает на обратной стороне открытки. Теперь он даже не мог себе представить, как изменилось ее лицо. Сидел в кафе у окна и смотрел на вьющуюся улицу, которая поднималась к соборной пласе. Нашел в поисковике картинки Уммерского леса: в поблекшем ирландском месте светил призрак солнечного луча. Аромат меланхолии. Порвал открытку.
Во снах он неизбежно попадал в старый лес Уммеры на севере Корка.
Первые годы в Уммере он провел с многострадальным отцом и стоической матерью. Отец был родом с запада, из костей и безлесых холмов Беары. В Уммере отца пугали деревья. Так считала мать. Внизу горла отца бился странный пульс, словно червяки. А в Сеговии колокола вызванивали торжественные ноты часа, получаса, четверти часа. В этих местах и сейчас не боялись перебрать с религией. Отец был очень религиозным. Когда они переехали в Корк, попал к харизматикам. Домой с собраний его чуть ли не приносили. Припадки и обмороки. Глоссолалия. Еще отец терял нить повествования. Забывал, о чем говорил, как по щелчку. Когда он спал днем, на его губах были странные древние слова. В детстве, а потом подростком Морис наблюдал, как ухудшалось состояние отца, и в Сеговии по-прежнему чувствовал на себе оттиск его неприкаянного духа.
Морис чувствовал себя старше, чем был. Страшился собственного отражения в горящих окнах испанского вечера. Верил, что годы его не пощадили. Весь спал с лица. Так и различал в своем лице череп. Чувствовал во рту червей. Тело стало каверной смерти. Господи, ему же, блин, всего-то тридцать шесть лет (он с холодной уверенностью чувствовал, что умрет в тридцать семь). Он сходил в бар на калле Маркес-дель-Арко, накинулся, как волк, на жареную рыбу и тонкие ломти хамона, пил чернильную риоху и холодное пиво с кранов, открыто плакал, и никто не обращал на него никакого внимания. В шоу талантов по телевизору пел слепой толстый мальчик, и весь бар был в восторге, и посетители хлопали в такт песне – звучал испанский перевод старого хита «Карпентерс», а у пацана перекатывались все его подбородки. Морис Хирн был так тронут, что в горло просочилась рвота. Он сунул в рот горбушку, чтобы ее заткнуть.
Та зима в Сеговии прошла на трагикомической, капризной, великолепной ноте.
⁂
Снова на юге, притянутый старым морем. Пляж в Малагете тот же, что и всегда. На восточном конце рыбачили со скал старики-пауки и нищие коричневые мальчишки. Стояла жаркая ясная весна. На холмах выразительно высились грандиозные виллы. В термальных потоках парили хищные птицы. Совершали моцион под солнцем пышущие здоровьем древние немцы. Морис лежал на валуне над прибоем. Он был крабом, нежился под весенним солнцем. Находили моменты странной железобетонной уверенности: он верил, что сможет вернуть и Синтию, и Дилли.
Жара была библейской. В каналах его тела ходили темные слухи. Угрюмые бегуны проносились по променаду несгибаемыми парами. Он прислушивался к старому рабочему городу Малаге и его католическим колоколам, его католическим паузам. Щурился, чтобы охватить простор над головой.
Ох, только посмотрите на бело-синее небо – может, это перед ним мне надо исповедоваться?
Он долго лежал на валуне, пока жар солнца не пошел на убыль и снова не опустилась вечерняя прохлада – как вуаль, как милость.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу








![О Генри - Паром несбывшихся желаний [= На пароме] [The Ferry of Unfulfilment]](/books/405330/o-genri-parom-nesbyvshihsya-zhelanij-na-parome-t-thumb.webp)