Макаров не ответил на поставленный в лоб вопрос. Он оставил ответ за собой — надо еще ко всему приглядеться, все взвесить. Он решил закончить свою мысль:
— Сима — редчайшая находка. Но с нею, милостивый государь, нужно установить и постоянно держать связь. Иначе какая от нее польза!
После обеда Макаров собрался поспать, снял с себя толстовку, или, скорее, то, что осталось от нее. Настя взяла у него из рук это тряпье и пообещала заштопать и постирать. Макаров с благодарностью принял ее услугу, но прежде самодельным ножом располосовал заношенный воротник толстовки — на пол с долгим звоном упала золотая монета, десятирублевик царской чеканки.
— Это — последнее мое достояние. Я обещал его Мурташке, если он приведет нас к тебе, — с некоторым пафосом сказал поручик.
— Не надо. — Иван решительно отстранил протянутую Макаровым руку. — Сытого не кормят.
— Это почему же?
— Потому как у Мурташки есть золото и без вашего.
— Вы думаете? — поручик неожиданно перешел на «вы». Видно, золото пробудило в нем больную память о прежней жизни, раздольной, с надушенными, прекрасными женщинами, с быстрыми рысаками и первоклассными ресторанами. О жизни, которая давно уж из яви ушла в горячечные сны и, скорее всего, ушла безвозвратно.
— А если нет у него золота, то и ваши крохи не сделают богатым.
— Это правда.
— Мы рассчитаемся с Мурташкой, — великодушно пообещал атаман.
— Пожалуйста, милостивый государь. А что за народ хакасы?
— Народ и народ.
— Они что? Одна из многочисленных монгольских ветвей?
Макаров умолк. Он понял, что хочет невозможного: больших сведений от невежественного Соловьева о местных жителях он не получит. И тогда поручик, прихватив с собою шинель, пошел спать подальше от домика, к Азырхае.
В тот же день Соловьев столкнулся с казачьим сотником. Тот, босой, в грязной нижней рубашке, брился у костра. Когда Иван подошел к нему, сотник, побривший уже правую часть лица, обстоятельно правил бритву на своем офицерском ремне. Увлеченный этим занятием, он не сразу заметил подсевшего к костру Ивана, а когда заметил, покачал седеющей головой и сказал:
— Дурная привычка. Древние люди не брились.
Спокойный, чуть хрипловатый голос сотника показался Ивану до странного знакомым, где-то Иван уже слышал его, потому и спросил:
— Откуда родом?
— Оренбургский. А что?
— Да так. Интересно бы знать, — уклончиво ответил Иван.
— Теперь вот совсем никакой. И даже не ваш. Отца убили красные, семью потерял в этой чертовой суматохе. Один теперь… если не считать вот этой штуки, — сотник порылся в кармане рваного галифе и вывернул на траву прокуренную трубку с узким бронзовым кольцом на костяном мундштуке, кольцо было в одном месте помечено маленьким, еле заметным крестом.
Иван выхватил у сотника трубку и принялся вертеть ее в руках. Она была совсем обыкновенной и в то же время в одно мгновение все перевернула в Иване, взволновав его необычайно.
— Не твоя трубка! — воскликнул Иван, угрожающе вскакивая на ноги.
Сотник горько усмехнулся:
— Моя она, Ваня. Ты подарил. Под Яссами. А?
Иван осовело залупал глазами. Он был ошеломлен, не зная, верить собственным ушам или нет, затем ухватил руками бритое лишь наполовину лицо сотника, ахнул, сразу узнав, и принялся порывисто прижимать к себе и целовать его. Сотник не сопротивлялся, он лишь покровительственно посмеивался, приговаривая:
— Ну и Ваня! Ох, Ваня!..
В лихорадочных глазах сотника большими светлыми горошинами стояли слезы.
— Да вы ж кончились, ваше благородие!
— Живой. Разве не видишь?
— Вижу, Павел Яковлевич! Ваше благородие!..
— Какое уж благородие, — печально вздохнул сотник.
Это были последние слова, которые сотник Нелюбов произнес в тот день. Расспрашивать его о чем-то было ни к чему. Он сказал все, что мог о себе сказать. Он всегда был угрюм и малоразговорчив. И на другой день, когда они, ища уединения, пошли к Азырхае, Нелюбов лишь слушал Соловьева, только изредка сдержанно восклицая:
— Говори, говори, Ваня!
Соловьев поведал ему о том, как нелегко жил все эти годы. Не умолчал и о службе у Колчака, и о побеге из тюрьмы. Плохо было, да и теперь не лучше, вертится, словно белка в колесе. Уж до того противно, что мочи нет.
— Говори, говори, Ваня!
— Что говорить! В блинах не катаюсь. Неважное у меня дело, Павел Яковлевич!..
3
С приходом макаровской группы тревожное состояние, в котором находился Соловьев, не прошло. По-прежнему атаман плохо спал, сны его были кошмарными и часто повторялись, он видел то, чего совсем не хотелось бы видеть. Все сны почему-то начинались в одном месте — во дворе у Пословиных. Татьяны, как всегда, не оказывалось дома, она спешно уезжала куда-то, и он гнался за нею, и по нему стреляли, и пули, колючие и нестерпимо горячие, терзали грудь.
Читать дальше
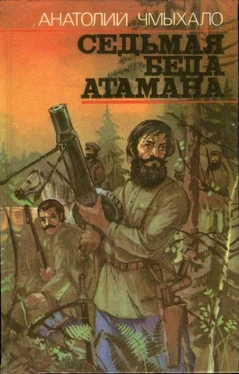

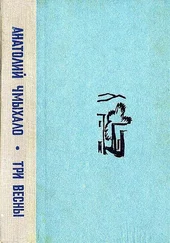

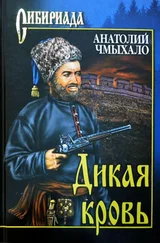


![Василий Сахаров - Сын атамана [publisher - МедиаКнига]](/books/414756/vasilij-saharov-syn-atamana-publisher-mediakniga-thumb.webp)




