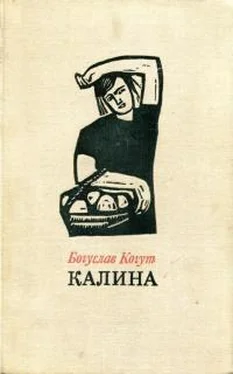— Вы ведь можете написать такую же, правда?
Какой милый этот Лель, помощник лесничего, выступающий в роли его заместителя, вот он уже делает заказ художнику и, наверное, представляет, как Борис размахивает кистью, а может, он прав, может, стоит попробовать восстановить эти похороны. Жаль, что все нужное для работы он оставил в городе; интересно, Матеуш поймет, что это другая картина, наверное, поймет, такую мазню воспроизвести — это вам не фунт изюму, да еще по памяти.
— А вот и пани Калина идет.
Мелькнула ее яркая полосатая юбка, и тут же в сенях послышались шаги, стук в дверь. Борис одернул левой рукой пиджак.
— Войдите, — сказал он.
— Это ты? — удивилась Калина. — Добрый день тебе. — Она всегда так говорила: «добрый день тебе, добрый вечер тебе». — Как поживаешь, Борис?
Он протянул левую руку и увидел, как передернулось ее лицо, только ли от удивления или от жалости, отвращения? Она ничего не сказала, неловко, смущаясь, пожала протянутую левую руку Бориса, а потом с любопытством посмотрела в глаза, в ее взгляде был вопрос, но он не ответил.
— Зачем ты продала эту картину?
— Ах, эту? На адвоката. Мне за нее хорошо заплатили. Я думала, ты напишешь такую же, не знала, что…
— Ничего, ничего. Я могу писать левой рукой. Я ведь левша. Ты забыла?
Она опять посмотрела ему в глаза, на этот раз недоверчиво, желая понять, шутит он или говорит серьезно, она приветливо улыбнулась, в ее улыбке была какая-то надежда или радость оттого, что с Борисом не так уж плохо; улыбка делала ее всегда привлекательной, сегодня же она была прекрасна, и в ее красоте не было и тени того классического высокомерия, отчужденности, которые присущи всему прекрасному; Калина была полна теплого блеска, живая, осязаемая всеми чувствами, приветливая, и Борис с удивлением всматривался в ее лицо, такое непохожее на то, которое он знал прежде, которое помнил и столько раз писал; в ней всегда было что-то соблазнительное и словно дикое, страстность и затаенность, легкая грусть, переменчивое выражение лица и динамичные движения, но все это было лишь его собственным восприятием ее, Калины, темой, объектом его фантазии, предметом интереса; сейчас он понял, и ему стало неловко, как всегда при осознании своей ошибки; молчание затянулось, нужно было что-то сказать.
— Ты мне нравишься, Калина, всегда нравишься.
Это было самое нелепое из всего, что он мог сказать; это была правда и неправда одновременно, это надо было выразить иначе; волнение, которое переполняло его минуту назад, облеченное в слова, превратилось в банальное ухаживание; и он только подумал, как трудно бывает словами выразить то, что тебе хочется.
— Я увидела машину, вот и пришла. Ты здесь долго пробудешь?
— Не знаю.
— Я принесла ключ от второго этажа.
— Правильно сделала, Калина.
Она перенесла его вещи с веранды в комнату наверху, он хотел помочь ей, но она не разрешила.
— Ты не работник, во всяком случае сейчас. Пока не поправишься. Я вижу, ты привез ружье, кабанов здесь теперь очень много.
— Посиди со мной, Калина.
— Да у меня дома дела.
Но все же присела на старый, продавленный диван, сложив на коленях смуглые руки с длинными пальцами. И уставилась в окно.
— У тебя уже нет машины, Борис?
— Машина есть, только мне управлять нечем.
— Надолго это?
— На всю жизнь.
Она не сказала ни «сочувствую тебе», ни «ах, какое несчастье», ни «черт, как обидно».
Она ничего не сказала, и за это молчание он был благодарен ей.
— Как твои девочки?
— Спасибо. А твои сыновья?
— Слава богу, ничего.
— Сколько тебе лет, Калина?
— Тридцать. Разве ты не знаешь?
— Скучаешь по Матеушу?
— Ты спрашиваешь как ребенок.
— Прости.
— Чего тут прощать. Жалко мне его. Больше, чем себя.
Неужели только жалко? Она то ли не может, то ли не хочет сказать иначе.
— Так ты говоришь, что много кабанов?
— Много.
— А мне разрешат отстрел?
— Ты должен получить разрешение у Леля. Сейчас он тут за егеря.
— Этот щенок?
— Ну да.
— Чувствую, не пострелять мне.
— Почему?
— Не разрешит он.
— Почему ты так думаешь?
— Не знаю. Молод еще.
— Мне надо идти, Борис. Может, пойдешь со мной? Ребят посмотришь…
Он шел за ней проселком, отгороженным с одной стороны зарослями боярышника. Дождь все еще моросил, и Калина в накинутом сзади на голову и спину мешке выглядела очень забавно; когда-то давным-давно Борис в ненастные дни пас корову в таком же одеянии; помнится, у него тогда ужасно мерзли икры; девчонки пасли коров с голыми ногами и не мерзли, это потому, что у баб в ногах больше крови, чем у мужиков, — это было его первое в жизни открытие о различии полов. Загорелые крепкие ноги Калины, казалось, подтверждали эту истину, ему захотелось в шутливом тоне спросить ее об этом, но ничего остроумного в голову не приходило.
Читать дальше