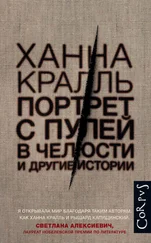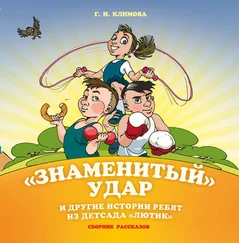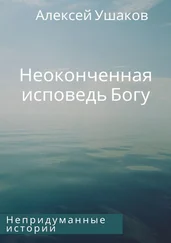Какой такой отче, когда Варька отца своего знать и не знала, ведомого о нем ни разу не слыхивала. Мать тайну рождения дочери хранила на самом дне своего чёрного сердца.
Но переспросить Никитичну не осмелилась, сон убаюкал.
Не прошло и полгода, как по зиме мужичка из соседней деревни шатун задрал насмерть. Потом горе другое случилось в той деревушке: завалило бревном крепкого мужика. Третий утонул в половодье. Все смерти были случайны, но Никитична стала смотреть на Варьку как-то иначе. Без укоризны, но с тайным каким состраданием, что ли?
А живая молва приписала Варюхе все эти смерти. Народное мнение не могло опровергнуть ни пьяную удаль вышедшего в половодье на утлой лодчонке ухаря из деревеньки. Ни то обстоятельство, что мужичок, ну тот, которого завалило бревном, был только не в стелечку пьян. Молва всё твердила: пьяного Бог боронит. А тут раз! – и вдруг завалило! Ну, а про медведя-шатуна в местности давно слыхом не слыхивали, видом не видывали. А тут, на тебе, объявился. И не стал по медвежьей шатунской привычке новые жертвы искать, а пропал, будто не был.
Деревушка тех охальников-мужиков была вовсе и не деревней. Так себе, выселки. При старом режиме селили там всякую нечисть, отщепенцев села. Народ изгонял от себя разных изгоев: ворьё, насильников да жутко ленивых.
Выселки всё равно разрастались. Прибивался к ним люд, одинаково мерзкий. Выжимки из тайги кучковались, бесились, творя всякий грех.
Когда пропадала в селе борона или корова, или ещё какая пропажа случалась, народ собирался. На клич выезжали казаки. Окружались те выселки, и вора секли среди схода. Казаки секли, себя не жалея. Отрабатывали гонорар на славу, на совесть. Если кто выживал, надолго запоминал свист нагайки. Но выселки не исправлялись: били не каждого, и не всегда. Иногда вора не находили, особенно если скотина пропала. Тайга велика, медведь мог задрать или волки. Ну, борона, или седло, то, конечно, вещдоки. За них и пороли. И выселки становились поосторожней. Кучковались по двое, пр трое. Добычу старались сплавить мгновенно. А уж проверенный сбытчик способы находил, как потерянное (то есть сворованное) по тракту спустить.
Вот и понадеялись трое охальничков на легкость добычи. Девка одна, вокруг ни души. Потешатся да убьют, а вечно голодные волки и лисы тело растащат по норам. Поди, разыщи пропавшую девку.
Забубённые Выселки верили в чёрта больше чем в Бога, а потому встреча с Варюхой казалась им встречей с ведьмой, да ещё и какой. Мало-помалу, по пьяни растрезвонили о встрече с летающей ведьмой. А молва подхватила. О старом егере, знамо, помалкивали. Каково про себя, про трусость свою рассказать, что втроём не сладили с одиноким убогим?
И хоть Варька красива, хоть мужики и местная молодежь мимо окон Никитичны табунами ходили, а вот свататься – ни один. А Варька не горевала: подумаешь, женихи. Рановато ей было, думалось, о парнях грёзы строить, ночную подушку слезьми обливать. Ей хватило на всю её жизнь братца-урода и Демагога, да тех троих, что такими же были.
А тут и война, стало вовсе не до мужиков. В военную пору у серой массы людей остается инстинкт самый главный – самосохранения. Нужно было выжить при ноющем вечно желудке, поспать, не говоря про отоспаться. Не до интереса к полу другому. И женщины и мужчины, одинаковы в серых валенках, в серых ватниках с серыми лицами становились серы и в притязаниях к сексу.
Пробить эту серость могла только любовь, и только любовь. Но глушилось и это победное чувство: война!
Нет, сёмки и лёвки, всякая сытая шелупонь находила себе развлечения. Но Бог начисто и навсегда лишал их любви. Потому и бесились твари людские, мучая всех на своем поганом пути: свет теплой любови марится всем. Да даётся не каждому. Вот и мстят лёвки да сёмки остальным, чистым, за нечистое свое естество, за грязную душу.
И пусть Сёмкина мать вбила в голову сына, что любви не бывает, что мужчинки ей надобны для безудержья ласок да для безбедного существования. Сёмка он не дурка, Сёмка то видел, как мать смотрит на соседского Алексея. Как меняется голос, от матери даже пахло совсем по иному, когда проходил Алексей. Свет другой в глазах появлялся, менялась даже походка. Мать становилась вовсе иная, чем когда зазывала мужчин, поводила глазами, бедрами щекотала взгляды мужчин, притворно вздыхала, высоко поднимая и без того высокую грудь. Мужики велись, как младенцы. Млели, мечтая припасть к тёплым соскам. И дровишек наколят, и воды нанесут, и шишек таёжных из леса подбросят, да и Сёмке гостинцев отвалят от щедрости блуда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
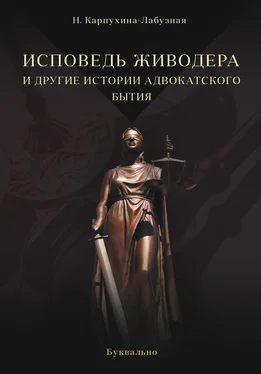
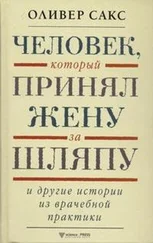
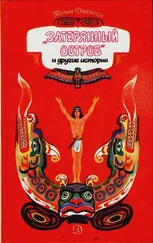

![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)