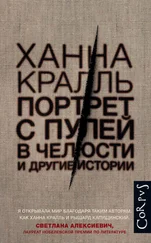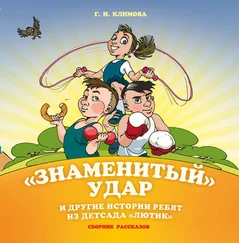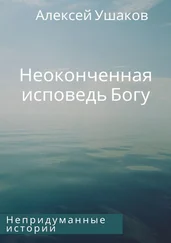И, когда тащил его по перрону подбежавший, замешкавшийся было доселе, постовой, он всё кричал, оборачиваясь непрестанно на валявшееся на белом снегу женщины тело: «сдохла, паскуда, сдохла, бл…ая тварь! «Сдохла!!!», вопил крик его торжества.
Постовой насилу втащил его в глубь вокзала, запер в холодной камере, которая и предназначалась для таких вот, в основном, пересыльных преступников. И побежал к телефону докладывать по начальству скандал. А уж потом на перрон, фиксировать тело до приезда следственной группы.
«Эмка» уже увозила Варюху. Подбежавшие муж да ребёнок засуетились близ Варьки. Парнишка, мешая сопли со слёзами, звонко кричал: «маменька, мама, очнись!», дёргал мать за руку, за ногу, не замечая, как слёзы сосульками стынут на морозце.
Алексей первым понял, что Варенька в обмороке, крикнул парнишке: «Жива мамка, жива!». А тут уже набежали и тётки, побросавшие семечки, и детвора, что невесть как ниоткуда взялась на вокзале. Даже буфетчица бросила своё вечное место с застывшими пирожками. Вокзал наполнился слухами, что убили директора. Вокзал опустел так мгновенно, что выбегавший постовой одиноко стучал каблуками кирзовых сапог по бетону вокзала, и эхо гулко разнесло этот стук, как одиночными выстрелами по тишине.
«Эмка» мчалась к больнице. Вареньку нужно спасти, а, может, отчаянная мысль и у Алексея и у Мишаньки, удастся спасти околевавшее тело Бурана?
Из окон больницы весь персонал наблюдал, как мчится «эмка» директора: что-то случилось, что-то стряслось! Выбежали люди в белых халатах, на носилки погрузили грузное тело роженицы (муж рвался отнести Вареньку сам, да санитары не дали, оттолкнули директора), уважительно так отказали: «мы сами, мы сами».
В суете, второпях забыли про Мишку, а про Никитичну вовсе никто и не вспомнил.
А Никитична уже бежала на стариковских ногах к больничке. Скорострельная молва донесла до села, что на вокзале бандиты, человек этак шесть или семь, все с револьверами, убили директора, убили и жёнку его, а мальчишку в больничку свезли, может, спасут.
Обгоняли Никитичну машины начальников, машина НКВД. Слух про теракт обгонял и Никитичну, и бежавших к больнице людей. Нквдисты только тогда вздохнули свободно, как в коридоре пред дверью родзала (громко как сказано: родильный зал, на самом деле маленькая комнатушка, в которой кроме стола для родильницы и умывальника для доктора, ничего то и не было) метался директор, живой, здоровёхонький. А тот только рукой махнул на вошедших: тихо вы, тихо. Мишка птенчиком приютился на табуретке, замер: как там мамуля? Ни вздоха, ни плача. Сидел, как старик, с больными глазами.
И уже нквдисты не дали прорваться толпе, оттеснили наружу самых охочих до сплетен. Вышли на белое крылечко старой больнички, крикнули в народ: все нормально, товарищи, директор живой, ожидает, так как жена рожает ребёнка.
Эти слова услышала и Никитична, добежавшая к тому времени. Её пропустили. Села рядом с Мишуткой, обняла застылое тельце мальчишки. Только сердечко ребёнка билось так часто-частенько, ну ровно как птичка.
Села, обняла пацана, потом встала на колени, и вслух, не таясь, стала Богу молиться, отбивая поклоны. И только тогда Варя очнулась. И родила здорового пацанёнка, славного бутуза. Крепкого, почти в четыре кило. Богатырь! Богатырь заорал паровозным гудком, да так громко, так звонко, что рассмеялись даже чекисты: эка, какой молодец! А директор заплакал.
Глеб бился в истерике, понемногу приходя к осознанию происходящего. Был бы сейчас пистолет, застрелился. Но пистолет выбили на перроне…
Кстати, пистолет нашёлся не сразу. Еле-еле нашли у какого-то сорванца. Мальчишки с Выселок мотались по вокзалу, ища добычу, и наткнулись после нападения какого-то дядьки на брюхатую тётку, на черневшее на белом перроне оружие. Подняли оружие, подрались, кому присвоить такую бесценность, поклялись схоронить в тайне глубокой от взрослых находку. И молчали, как партизаны, только в тесном кругу обсуждая всё то, что тогда происходило на белом вокзале. Но НКВД умело работать, и пистолет был изъят, и приложен к вещдокам.
Но пистолета у Глеба не было. Не было ни ножа, ни даже ручки. А то бы острым пером процарапал бы вены, и дело с концом. Голые стены мрачного кабинета, намертво к полу привинченный табурет, намертво к полу привинчен такой же железный, как табурет, маленький стол. Окна в решётку. За высоким оконцем снег белеет в синеньком сумраке. Глушь. Тишина. И впереди только мрачная перспектива. Завоешь. И Глебка завыл! Полудикий взвой постояльца тюремной каморки пронял до дрожи буфетчицу, что задремала привычно, ожидая окончания смены на вахте питанья, да пару-тройку засидевшихся мужиков, что разложили на скамейке вокзала нехитрую снедь. Буфетчица уже устала их прогонять из вокзала: от её снеди казённой их, вишь, воротит. Но рабочим после смены ударной так хотелось хоть чуть-чуть посидеть, отдохнуть от работы, пусть даже на стылом вокзале. Разложили съестное, распили «по маленькой», очень живенько обсуждая всё то, что днем было на старом вокзале.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
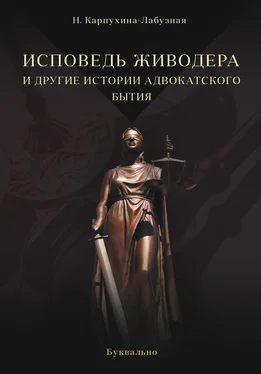
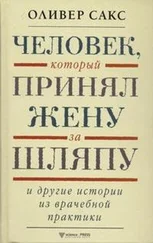
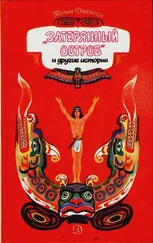

![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)