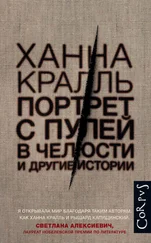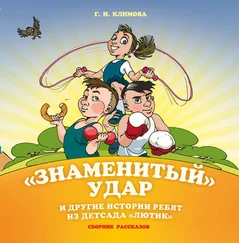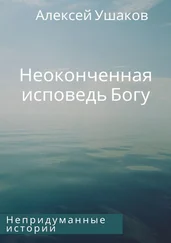И сколько к ней народу подкатывалось разведать да разузнать, кто он, откуда странный пришелец, что на заимке жил одиноко, зачем поселился в безлюдной тайге? То урядник, ещё при той, при царской эпохе, как возвернётся с тайги, вызовет на допрос: что знаешь, рассказывай? Отмолчится, с тем и отпустит. Потом при новой власти комиссары допытывались: кто там в тайге гнездовище свил, не царский лазутчик? И тут отмолчится. В тридцатые НКВД прицепится к ней: кто да откуда на старой заимке избушку срубил, проживает безо всякого разрешения. Молчит и теперь.
Отставали все власти, приобвыкли в молчанию старой.
А что ей рассказывать старые тайны? Не свои тайны, чужие. Хотел бы дружище старинный сам рассказать, рассказал бы опричникам, что от старой да новой властей шатались без делу, крамолу искали, свой грязный хлеб отработав на нужды державы. Сколько раз хотелось ей крикнуть, что, мол, не там ищите, не ищи среди праведников волка в шкуре овечьей, среди своих массу найдёте. Да разве ляпнешь этим подонкам правду да истину: захомутают, да в каторгу. А Алёшку – куда? Ну и терпела ради приёмыша. И ради отшельника тоже.
Мало-помалу стал прозываться в народе как старец. Так и прилипло. С тем прозвищем и отошел мирно к Царским Чертогам на Небе, земля ему пухом. Никогда никого не обидел, к каждому с миром. А как ребятишек любил. Бывало, и разбойникам помогал. Увидит, кто в тайге замерзает, не в силах добраться до пожитья человеческого, кряхтит, а тащит на закорках исхудалого человека. Ну и что, чтоу того на руках иль ногах кандалы звоном звенят на морозе? Человек он и есть человек. Пусть там власти себе разбираются, за что заковали они человека в кандалы да оковы. А ему, раз человек погибает на стуже-морозе, выручать надобно. И выручал. Притащит в избёнку полумертвого беглеца, руки-ноги его в тазу с холодной водой отмочит. В тёплую или горячую воду нельзя: слезут и кожа и мясо, только косточки забелеют. Отваром горячим отпоит болящего, за пару недель откормит таёжной едой.
Бывало, что и слова в ответ доброго не услышит. Добредёт к вечеру на заимку, добывая в тайге пропитанье, а гостя след уж простыл. Иной гость не брезговал и пожитками старика: то миску прихватит, то старые унты. А старый только покрутит седой головой, усмехнется в бородку: что миска? Новую сточим. Что унты? Эва, валенки есть.
Ружья не имел. Ножи, да, ножи были. Как в тайге без ножей. Но таскал их с собой всегда обязательно: и себе в тайге надобно, и гостям с кандалами ножи ни к чему.
Это потом уже, когда избушка его на заимке разрушилась без хозяина от старости да от ветхости, обнаружился и тайник. Вырыт в полу, в вечной мерзлоте аккуратный квадрат, обложенный мохом и камнем. А там в старом знамени, в стяге, что от сырости да от годов весь поцвёл да истлел, стопка бумаг, да награды царизма, да погоны поручика царской гвардии. И фото, на котором едва что едва угадывалось лицо очень статной дамы, сидящей перед камерой аппарата, да лицо бравого офицера, стоявшего чуть позади её. Кто они, что они? А Бог его весть. Нашедшие клад не стали в музей относить: в советский музей да царские шмотки? Стяг на портянки, бумаги в растопку, медали детям в игрушки, а фото теперь и не помню, куда подевались. Был тот поручик отшельником старым, не знаю, не ведаю. Может, и был. А, может, и схоронил в погребке тайну чужую в годину лихую. Не знаю, а врать не научена.
Так вот, Варька бежит-семенит к перрону, где скорый поезд стал уже выгружать приезжий народ. Мишка уже почти на перроне, звонко кричит на свежем морозце: «папка, папуля», Буран в двух метрах, сзади за Мишкой.
И тут, как в кадрах немого кино перрон. К перрону несётся мальчишка, кричит узнаваемое «папа». Сзади собака, здоровенная псина. Дальше, метрах так в ста, женщина на сносях, семенит туда же, к перрону. На перроне народ. Немного. Толстые тётки с вечными семечками в вечных кульках. Толстые не от природы, а от одёжи, что надевалось на тело в защиту от сибирских метель. Постовой, что окидывал цепким намётанным взглядом всех приезжающих, приезжий народ, что суетился близ своей ноши, чемоданов, узлов. Кое-кто отличался от пришлого люда: вон, тощий какой почти оборванец, одетый явно не как для Сибири. Пальтецо «на рыбьем меху», ботиночки, и ни валенок, ни шарфа вовсе нет. Ни клади, ни багажа. И явно со следами недавнего пития на несытом лице. Вот этот оборванец, что выполз из самого из дальнего из общего из вагона, так рванул, с такой прытью на это детское «папа, папуля!», что постовой не успел среагировать. А должен был, должен был среагировать!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
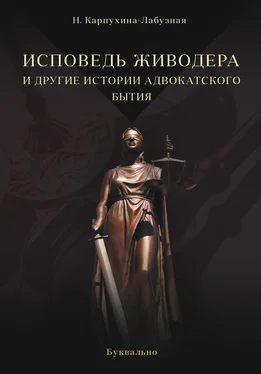
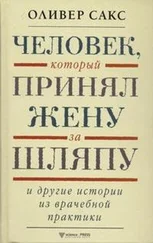
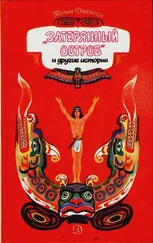

![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)