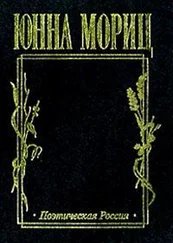В морду дай ему, в морду, я тебе говорю! Бежит он рысцой, закаляется — а ты спокойно, с большим достоинством идёшь случайно ему навстречу — и хрясть! хрясть! хрясть!.. А ещё лучше так: он сидит в президиуме, ведёт собрание, ты посылаешь записочку с пожеланием выступить, он тебя объявляет, а ты спокойно, с большим достоинством идёшь на сцену и при всех плюёшь ему в рожу — хр-р-р! хр-р-р! хр-р-р! Все понимают — за что, и мы устраиваем бурную овацию. А этот мерзавец, подонок, вор, курва, сексот, угробивший столько народу, навалит в штаны от страха и, попомни мои слова, начнёт тебя уважать, ублажать, и всё ты получишь сполна, спокойно, с большим достоинством. Ты же меня знаешь, я плохого не посоветую. Сам терпеть не могу сомнительных действий, интриг, эта мелкая возня не по мне — слишком жизнь коротка и до-о-о-роги идеалы.
Бу-бу-бу… Грум-вжжик, грум-вжжик… ияи-ияи-ияи… Непроглядное утро, промозглое, ледяное и слякотное, с гремучей, визгучей дверью в парадном, с тарахтеньем и шамканьем лифта, пахнущего мочой и окурками, с подметальным размахом, шварком и скрёбом лопат и дворницких мётел в гулком колодце за окнами, где собаки прогуливают хозяев, рычащих, роющих землю, задирающих лапку под деревом, вынюхивающих друг друга.
А в почтовом ящике — три газетки, четыре письма, две повестки, два счета за телефон, который не отвечает, и… малюсенький мышиный младенчик:
— Иди ко мне, моя крошка, бархатный, нежный лоскутик! Я отнесу тебя к мамочке, к твоей мышиной бабуле, к толпам хвостатых родичей, которыми полон подвал.
— А я уже мёртвый, ты разве не видишь? Надень очки, вот они — в левом кармане куртки. Надень и увидишь, как я спал и меня задушили, крепко и весело сжали меня в кулаке и — хруп! — и пи-пи!.. А потом затолкали в железную щёлку. Зато мне теперь не хочется ни пить, ни есть, ни дрожать от страха, я сплю в благодати, а мясо моё отнеси под кустик, пускай съедят, меня в этом мясе нет, весь вышел, — он говорит блестящими, выпуклыми глазёнками, лежа в ладони под мертвым сияньем общественной лампы дневного света.
Иду и бросаю его под кустик, в глубокий снег, не оборачиваюсь, пересекаю двор, а в глазу на затылке серебристое тельце удавленника сливается с морозной снеготочивой мглой…
— Нет, паршивец, ты дай мне собственную оценку — бу-бу-бу! — тогдашнего пакта между Молотовым и Риббентропом и приведи — жу-жу-жу! — бесспорные доказательства, неоспоримые факты, а не тявканье этой контры, этой газетной своры гнусных переворотчиков! Я преподаю вам не только и не столько нашу историю — грум-вжжик! грум-вжжик! — а железную идеологию нашего общества! Да заткнись ты, заткнись, вся семья у тебя такая! Мало он пролил крови, мало пересажал, мало перестрелял! Не своею он умер смертью! Скоты! Свиньи неблагодарные — грум-йяй-йяй! Гений он был, ге-е-ний! В гробу мы видали Европу и всю мировую общественность! В гробу — бу-бу-бу! Подумаешь, Гитлер?! — Нет ничего позорного, это же битва гигантов, мы расширяли границы! Мы, негодяй, законно увеличили свою территорию. Да плевать мне, что о нас думают! Вон из класса! Больше не смей приходить! — грум-грум! — на мои уроки. Ты очерняешь — бемц! — ты извращаешь идейно — бамц! — всю нашу действительность, ты ненавидишь историю родины — грум-йяй-йяй! — ты предаёшь идеологию нашей партии, вежливая ты сволочь!
— За что-о-о-о? Он ничего тако-о-о-о-го! Грум-вжжик, грум-вжжик, йяй-йяй!
— И ты вон из класса! И ты! И ты! И ты!.. Задуш-ш-шу, как мыш-ш-шат! Мразь, шваль, газет начитались, наслушались голосов, нагляделись на переворотчиков — бамц-бамц! — на прогрессистов, ревизионистов, антисталинистов, подонков!
Дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля, переменка, все мчатся в уборную.
Жилистая, подслеповатая кошка под кустом на снегу поймала задушенного мышонка и лапой толкает, чтоб он удрал, а она чтоб его догнала, а он чтоб опять удрал, а она чтоб опять его догнала и, вымотав этой древней игрой, кровожадной, беспроигрышной, съела и облизнулась. Пища должна бегать!
— А я уже мёртвый, ты разве не видишь, проклятая кошка? Меня в этом мясе нет, весь вышел! — говорит он блестящими выпуклыми глазёнками, вылетая из класса в мировое пространство — мороз и солнце, день чудесный! Тю-тю, Валендитрия Мутиновна, я свободен, я выброшен, о счастье! Теперь я не буду ходить на ваши — бу-бу-бу! жу-жу-жу! грум-грум! йяй-йяй! А буду гулять со своей девочкой и читать «Оправдание добра» Соловьева.
А другой сказал:
— Хрен вот! Выгнать меня не можешь, драная кошка, стерва и псих! У нас пока еще есть конституция, и никто не имеет права лишать меня среднего образования. Цыц, а то врежу! Нет у меня денег для репетиторов. И будешь ты учить меня, Валендитрия — хрясть! — Мутиновна, это твоя работа, тебе за неё государство платит из налогов — курва! — моих родителей, из их кармана. Так что заткни свою пасть, а то харкну. И запомни — орать на меня бесполезно, я подрабатываю санитаром в психушке, и все эти фокусы — до первой затрещины. Так что будь добра успокоиться — вот валерьянка, у меня ведь тоже нервы контуженные!
Читать дальше