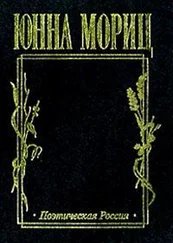Детей от него родилось девяносто девять от ста тридцати жен, ни с одной из которых он в законный брак не вступил по причине ходьбы своей непрестанной и мимолётности.
Двенадцать его дочерей скурвились. Потому как ели часто куриное мясо, крашенное под жемчуг. Гены сработали!.. Но на шестом десятке годов всё у них подыспра-вилось, Рой собрал их на острове, где много рыбы, фруктов и овощей, но совсем нет никаких кур, — и дочери все как одна обратно раскурвились до полной святости, обрели свою интересную благодать и уважение островитян и родичей.
Да не хихикайте, не хихикайте, одеяло же падает, а у нас тут до десятого октября батареи не топятся. Хорошо вам в двести пятнадцать лет у меня на плече греться, ластиться, языком моим баловаться — все равно не пойду за вас замуж, потому что, — как писал Августин, — нет сомнения, люди нередко любят прекраснейшие вещи самым постыдным образом.

Вешалка для лица — секрет вечной молодости!.. Снимайте лицо на ночь и вешайте у открытого окна.
Vip-салон «Афродита»

Дант, когда ему нужно, называет веки
глазными губами… Итак, страданье
скрещивает органы чувств, создает
гибриды, приводит к губастому глазу.
Осип Мандельштам. Разговор о Данте
Однажды в студёную зимнюю пору примчался в наш знаменитый журнал один псих лохматый, никому не известный автор, лет тридцати или около этого. Роман принес. В стихах! Моя, говорит, фамилия — Пушкин.
А я ему говорю: это всё уже было! с такой фамилией теперь можно стать кем угодно, только не поэтом! Очень даже распространённая фамилия! Лично я четырёх Пушкиных знаю — все инженеры! К нам тут, гражданин Пушкин, одних Есениных пять штук ходит, три Лермонтова и двадцать три Державина.
А он мне так нахально свой роман в стихах тычет. Ну псих какой-то! Поэму, и ту читать противно, если стихами написана. А тут роман — по 14 строк в каждой строфе. С ума сойти! Сколько строк в романе — все на 14 делятся без остатка! Онегинская строфа называется! Я, конечно, не хуже других Пушкина изучал… Но лично, живьём так сказать, встретился с ним впервые.
И не произвёл он на меня никакого хорошего впечатления. На портретах — одно, а в жизни — совсем другое. И совершенно я его не узнал! Так себе человек, ничего особенного. Но ужасно много из себя воображает! Плюгавенький такой, низенький, глазки навыкате, носище ноздреватый (вдобавок еще и крючком!) — все твои мысли так и вынюхивает. Настроение этот автор может испортить запросто. Даже в душу плюнуть при случае. Поперёк ничего не скажи!
Например, вошёл он в мой кабинет — как ветром внесло… и дверь за собой не закрыл! Тоже мне гений! Я эту наглую породу знаю, я их терпеть не могу! Но я ему вежливо так говорю: «Автор, закройте дверь — дует!»
Так он, представьте, ногой дверь как лягнул — она три раза подряд закрылась!
Я ему вежливо так говорю: «Автор, что это вы ногами дверь закрываете? Мы здесь таких громких авторов не очень-то любим…»
А он мне грубо так отвечает: «А мне и не надо, чтоб вы меня любили… мне надо, чтоб вы меня печатали»!
Тьфу! От его хамского такого высказывания мне прямо всю душу разворотило. Стал я весь целиком содрогаться от этой контузии. И вдруг нашло на меня предчувствие, что всё это — не к добру! В ту секунду вся моя трудовая жизнь пронеслась в голове.
Был я передовой швеёй-мотористкой, потом контролёром пододеяльников, так чёрт меня дёрнул связаться с этой редакцией! Писал бы себе свою гражданскую и философскую лирику, иногда бы печатался, издавался — колоссальная прибавка к зарплате и главное — никаких врагов!
Туг как тут гнусные, зверские, подлые рожи моих врагов заполнили весь кабинет тесными рядами — как на школьных фотографиях: кто повыше — на полу стоит, а кто пониже — сзади на табуреточках. И так их мерзавцев много — аж стены и потолок прогибаются, как резиновые. Враги — они и есть враги, самые натуральные: ни слова не говорят, уважительно так улыбаются, а всем своим видом показывают, что я — графоман и серость, работаю Директором поэзии, чтобы Директоры всех других отделов поэзии меня печатали — за то, что я их тоже печатаю. А хитрый Пушкин всё это видит и ни гу-гу, — мол, сам эту кучу врагов расплодил, сам и меры принимай, а я, Пушкин, тут ни при чем, я — выше твоей грязи, меня эта мерзость никак не касается.
Читать дальше