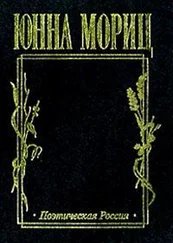Мама бинтует раненых. Бинты тоже едят. Если очень больно. Бинты как промокашка. Они промокают кровь. Мы — чернилки-невыливайки. Невыливайки с кровью. Можно подлить, если мало. Мама моя подливает в раненых кровь. Кровью пишут. Любовные письма и страшные клятвы. Нажим… волосок. Рука не должна дрожать. Пишите красиво и чисто. Клянусь убивать врага, умереть за Родину и вернуться с победой. Жди меня. И я вернусь. Только очень жди. Кровавые дожди утопили фашистов, они проваливаются сквозь землю, а там бункер, и Гитлер красный от крови, и Геббельс. От этих фамилий я очень моргаю.
И уже прилетела комета кровавого цвета. Утром дети видят её из окна. И ночью в госпитале видят её раненые. Дети и раненые видят комету. Больше никто. По субботам — концерты для раненых. Я пою и читаю Некрасова. Там пахнет йодом, кровью, гноем и потом. Сперва ужасно тошнит. А потом все привыкают. И выздоравливают.
Комета может упасть на землю и её расколоть. Та сторона, где Гитлер, обломится и вся сгорит. А та сторона, где мы, расцветёт от тепла и будет кружиться, покуда не станет круглой. Комету прислали нам марсиане. Они голубые и питаются воздухом, у них поэтому нет голодных. Они разговаривают глазами, читают мысли на расстоянии — прямо из головы. У них голова хрустальная. У них не бывает плохих мыслей. До того, как питаться воздухом, они открыли, что можно есть промокашку. Нажим… волосок. Нажим… волосок.
Промокашка — она как воздух, ее можно есть без конца. Из нее во рту получается розоватая кашка. Пресная, чуть сладковатая, пахнущая бинтами и стружкой. Эй, рубанок, спозаранок стружку лей!., лей, лей!.. Клей тоже едят, если в нём крахмал. И мел едят. Когда едят мел, он разговаривает. И во рту — два слова: крах мал, крах мал, мал крах. Кр-р-рах! Мал мел. Мул мыл мол. Лом был бел. Лом бел мял лоб. Бил об морок. Обморок!., обморок!., обморок… Боль, ломь, темь-там… Об пол — лбом! Тили-бом, ти-ли-бом… Летим!.. Едим!., все подряд. Кашка, ромашка, роза. Тётя Роза в пузо втыкает штырь. Нашатырь!.. Глотанье меча. Запах — моча. Мир бел. Лицо — мел. Хлад, глад, свет! Звон. Дон-динь!.. Всем! дают витамин. И булочку с сахаром.
Тётя Роза давно убита, она была санитаркой, её наградили орденом. Это не тётя Роза, это моя учительница. Осенью мы помогали ей квасить капусту в бочке. Она голодает с двумя детьми. И носит галоши на лапти, а лапти на шерстяные чувяки.
Через тридцать лет в моей черепной коробке лопнет какой-то сосудик. Малюсенький. Вечно он помнил, о чём никому нельзя говорить. Потому что все и так это знают не хуже тебя. Он заведовал тайнами целой эпохи. Он был целомудрен. Мужествен и благороден. Такой малюсенький. Такой крамольный насквозь. Презирающий полуправду, трусость в худшие дни, наглость — в лучшие. Присвоенье чужих страданий, пыток, хлада, глада и света.
Сквозь этот сосудик протекало, струилось отчество первой моей учительницы. На Урале. В Челябинске. Варвара… а дальше — лом бел мял лоб — хоть убей, не помню, не помню, не помню-у-у!.. И моргаю, моргаю… Нажим… волосок. Нажим… волосок. И вся она возвращается, прозрачная, каллиграфическая, как яйцо куропатки. Как ледяная листва на окне, за которым летала комета. Вот её отчество — хлад, глад, свет, звон, всем дают витамин и булочку с сахаром — Хладгладсветзвонвсемдаютвитаминибулочкуссахаром! В руке у неё, в хрустальной руке у неё шнурок, на шнурке — мешочек сатиновый, в нём — промокашка. В промокашке — трилистник. Чистой силы цветок. Если ранят, так не убьют. А убьют, так вернёшься с победой.
А где мой трилистник? Где мой трилистник? Где? мой? трилистник?.. Господи, вот он! Лежит в промокашке. В прямой, розовой кашке. В маме, которая мыла Машу, и папе давала мыло, и кормила его из ложки, когда он вернулся из ада, из сада пыток. Нажим… волосок. Нажим… волосок. Волосок, на котором висит. Вся жизнь. Вся судьба. Вся память. Обмороки голодных. Обмороки обжор. Чванство низких. Скромность высоких духом. И бинты. И прожарка. И мыло. И мел. И кровь. И гной. И пот. И хлад. И глад. И свет. И трилистник.
Сто лет с наслажденьем жую промокашку. В самолёте, в поезде, на собранье, в больнице, в очередях. Всюду, где очевидно, что правда — она постижима, но то она есть, то нет её. А истина непостижима, но есть всегда. И в худшие дни, и в лучшие. И до лучших дней доживают все. Но всех раньше — мертвые.

Чайная
Жили-были чайники. Один — большой, круглый, нарядный, с красными розами на щеках, весь в золоте. Другой — поменьше, но тоже нарядный, с синими розами на щеках, весь в золоте.
Читать дальше