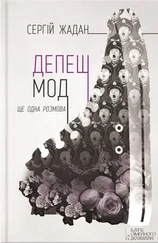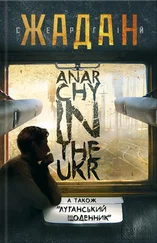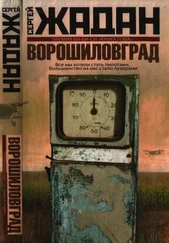— Наверное, — не возражает Паша и тут-таки вспоминает.
Два года назад? Или три? Когда это было? Весна. Кажется, апрель. Или май? Май, точно. Много запахов, новых, свежих. Город, высотки, холодный подъезд, как гроб, лифт, последний этаж, свежепобеленный коридор, из-под извёстки проступают темные пятна, к стене приварена железная лестница, открытый люк. Что он там делает? К кому он пришёл? Паша пробует вспомнить, но не успевает. Над их головами небо освещается, серый дождевой фон пробивают яркие, вытянутые в длину вспышки: грады бьют с территории завода, прямо над их головами, светлые тени взлетают над ними и летят на другую сторону города, на север, за окружную. И Паша снова чувствует, как ему в сердце вжимается пружина, убыстряя его, сердца, работу, толкает Пашу вперёд, вперёд, подальше отсюда, пока ничего не прилетело в ответ, пока вспышки не осыпались на землю, заливая всё металлом и смертью. Водитель тоже напрягается и выжимает из лаза всё, что можно. А можно не так уж и много: автобус идёт по промзоне, проезжает один завод, за ним другой, потом базу, за ней складские помещения. Главное — подальше отсюда. Тополя вдоль дороги, шлагбаумы, закрытые железные ворота. Главное — проскочить промзону, где ни одной души: случись что — никто не узнает, никто не поможет, пружина жмёт изнутри, ускоряет движение крови, главное — подальше отсюда, думает Паша. Водитель, похоже, тоже испуган, не ждал, что валить будут прямо над ними, теперь вот выкручивает руль, выкручивает и уже ничего не скрывает: ни своей усталости, ни злости, ни страха. Так же, как тот боец, думает Паша, на посту, молодой, улыбающийся. Тот тоже ничего не скрывал, всё было у него на лице, всё было в его улыбке. Да-да, тот действительно ничего не скрывал, будто говорил Паше: вот он — я, взял штурмом этот ёбаный город, зашёл на блокпост, выбил всех отсюда, зачистил, это я тут всё контролирую, это от меня здесь всё зависит, могу сдать тебя, сука, со всеми твоими кишками, так что давай, вали, нахуй ты мне нужен, езжай отсюда, убирайся подальше, сам сдохнешь. И что-то ещё, что-то там было ещё, думает лихорадочно Паша. Только что? Свежепобеленный коридор, металлическая лестница, последний этаж. Что-то из прошлой жизни.
Когда становится совсем холодно, так что малой обхватывает его руками, чтоб хоть как-то согреться, когда водитель засовывает руки в карманы и приваливается к рулю, руля животом, и когда женщины перестают голосить, кутаясь с головой в подушки и одеяла, они-таки выкатываются за последний заводской забор, пересекают чёрное, перепаханное поле и въезжают в посёлок. Паша втянул голову в плечи, повернулся боком к лобовому стеклу, чтоб не так дуло, но не выдерживает, выглядывает на дорогу, смотрит, что там впереди. А впереди длинная улица с частными домами. Много домов со следами обстрелов, дыры в шифере, черные метки на стенах и заборах. Из-за металлических зеленых ворот выглядывает кто-то местный — испуганный, озверевший, смотрит на прибывших с подозрением, мол, кто такие, зачем приехали? Главное — будут ли снова стрелять? Паша здесь был пару раз, в детстве, с отцом. То есть ничего не помнит. Во всяком случае — ничего хорошего. Рабочий посёлок, построенный при шахте, сросшийся в восьмидесятых годах с городом, хотя всегда оставался отделённым от него бесконечной промзоной. Определённая автономность, отдельность. Несмотря на то, что все работают в городе. Точнее, работали. До войны. Теперь посёлок отрезан, бои за него велись с осени, правда, прекратились они здесь довольно давно: в городе ещё стреляли, а тут уже начали латать шифер и городить новые заборы. Куда же без заборов. Лаз идёт по главной улице, доезжает до конца, въезжая в исторический, так сказать, центр, подкатывает к автобусной остановке, тормозит. Паша промёрзшими до костей пальцами открывает дверь, они с малым вываливаются наружу, как парашютисты, что прыгают с одним парашютом на двоих. Тело затекло, ноги онемели, одежда сырая, голова тяжёлая. Десять часов, приятное январское утро.
Паша сразу же замечает, что изменилось за тридцать лет, с тех пор когда он здесь был в последний раз. Ничего не изменилось. Церковь новую построили. И супермаркет. Ну и всё. Старый сельсовет стоит без флага: предыдущий, государственный, похоже, сбили, новый вывесить ещё не успели. Старый Дом культуры — без каких-либо признаков жизни. Невдалеке школа, тоже пустая, над футбольным полем висит дождь. Сбоку тянутся здания магазинов: белый камень, потемневший от времени, синяя краска оконных рам, прилепленные к дверям рекламные плакаты с кока-колой. И толпа — чёрная, молчаливая, следит за ними, напряжённо и недоверчиво, того и гляди кинутся, разорвут на куски. Женщины начинают выгружаться, выбрасывают через окна мешки и подушки, выходят под дождь, толкутся около Паши, продолжая воспринимать его как главного, не отходя от него, перекладывая на него ответственность за всё, что с ними произойдёт. Когда выгружаются все, водитель бросает взгляд на одну толпу, давно уже стоящую возле магазина, затем на Пашу, мокнущего теперь со своим десантом, криво усмехается, заводит машину, сдаёт назад. И вот две толпы стоят одна против другой — две кучи мокрых и злых пассажиров, на пустой автобусной остановке, и разделяет их только сто метров плотного и влажного январского воздуха. Стоят и не знают, чего друг от друга ждать, о чём друг с другом говорить. Паша тоже не знает, о чём говорить, стоит, разглядывает толпу напротив, различает в ней нескольких мужчин постарше, женщину в малиновом пуховике, двух девочек лет десяти, что стоят одни, без взрослых, со школьными ранцами за плечами. А остальных и не различает: так, пятна лиц под платками и тёплыми шапками, глубоко запавшие глаза, пряди волос, выбивающиеся из-под капюшонов, наспех накрашенные губы, размытая дождём чёрная краска под глазами. Женщины, в основном женщины. Смотрят сурово, будто догадываются о чём-то нехорошем. Никто даже не улыбнётся. Паша вспоминает, как криво усмехнулся водитель, вспоминает улыбку того пацана на блокпосту, который узнал его, но ничего не сказал, и вдруг всё вспоминает.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу