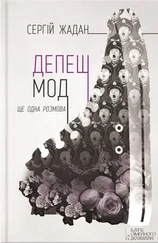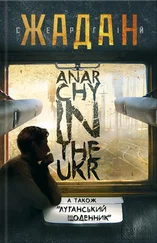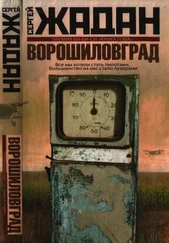— Эй, служивый, — кричит, — дай огня.
— Не курю, — холодно отвечает Паша и плотнее вжимается в стену. Нужно идти, думает, всё, нужно идти.
Но его собеседника этим не проймёшь. Он уже обставляется своими пакетами с пакетами, дождь холодно светится в его бороде, как роса в августовских травах. Направляет на Пашу свой чёрный ноготь и радостно повторяет:
— Дай, служивый!
И так уверенно он это говорит, что Паша невольно тянется в свой карман и находит там отнятую у малого зажигалку. Дед продолжает тянуться к нему физиономией, будто хочет поцеловать. Паша наклоняется, ловит мертвенный запах гнили и старости, подносит ладонь, прикрывая зажигалку. Короткая вспышка огня на мгновение выхватывает из ночной темноты пересохшие губы и набрякшую, как у покойника, кожу, ещё безумный жёлтый глаз, глядящий из-под опущенной брови. Огонь тут же гаснет на ветру. Но дед успевает глубоко затянуться, словно втягивает в себя всё тепло вокруг. Задерживает дыхание, тяжело выдыхает, потом снова направляет на Пашу свой чёрный ноготь.
— Что, — смеётся, — наваливают наши?
— Наваливают, — отвечает Паша невнимательно, не зная, как отцепиться от этого сумасшедшего с его пакетами.
— Наваливают, — довольно повторяет тот. — Наши могут.
— Могут, — не возражает Паша.
— Могут, — радостно смеётся дед.
— Ага, — ещё раз соглашается Паша.
— А что же ваши не отвечают? — вдруг спрашивает дед.
Паша вздрагивает, смотрит на него и понимает, что никакой он не сумасшедший, что всё прекрасно понимает, во всём прекрасно разбирается. И Пашу видит насквозь. И дед тоже видит, что Паша всё понимает, поэтому смотрит внимательно, придирчиво, с жёлтой ненавистью в глазах. Паша нервничает, не зная, что делать, поправляет пальцем очки. Приглушить его нужно чем-то, думает, глядя на деда, просто взять и приглушить. И взгляд его постепенно тяжелеет, остывает, как земля под зимним дождём, и он медленно, медленно кладёт зажигалку назад, в карман, но дед перехватывает это его движение и даже в темноте замечает, как изменился у Паши взгляд, и когда молчанка между ними становится совсем нестерпимой, вдруг откидывается назад и начинает хрипло смеяться.
— Да, служивый! — смеётся захлебываясь. — Вот так-то!
Ага!
И смеётся так заразительно, что Паша тоже не выдерживает и начинает улыбаться. Дед при этом аж кашлем заходится — нутряным, ядовитым, так что Паша ещё плотнее вжимается в стену. Дед откашливается, переводит дыхание, успокаивается.
— Дождь какой, а? — спрашивает всё так же весело. — Тебе куда?
— На станцию, — отвечает Паша.
— Это там, — дед уверенно тычет ногтем в темноту. — Вон там, видишь? Это Полярная.
Паша смотрит во тьму. Она движется и пульсирует. Никаких звёзд там, ясное дело, нет. Вместо этого есть вся та муть, которая уже который день висит над городом, давит на него, наполняет его собой. Сколько ещё нужно времени, чтоб это всё закончилось, думает Паша, разглядывая косые потоки. Сколько нужно времени, чтобы всё это исчезло под водой? Время остановилось, ничего не осталось, никого не жалко. Я никогда не смогу отсюда выбраться, никто не сможет выбраться отсюда живым, все останемся тут, все поляжем под этой мертвой водой. Паша вспоминает всё, что видел за эти два дня, все вымученные глаза и перекрученные злостью лица, все хриплые от обезвоживания голоса, все шатающиеся от недосыпа фигуры, весь холод и всю сырость, и его внезапно начинает подташнивать — и от того, что перемёрз, и от того, что очень хочется есть, и от этого деда, пахнущего смертью, будто он разлагается прямо здесь, в дождевых потоках.
— Видишь? — спрашивает дед. — Видишь её?
— Не вижу, — отвечает Паша.
— Правильно, — соглашается дед. — Правильно, нет там ничего. — И говорит, как в лихорадке, тыча пальцем в темноту: — Два товарняка с телами. Два вагона, служивый. Сам видел. На моих глазах. Никого нет. Никого не жалко.
Берёт пакеты, подставляет голову под дождь, исчезает за углом.
Похож на рыбака, что за весь день так ничего и не поймал: дождевик, под ним камуфляж, на ногах резиновые сапоги. Живот висит, как сумка у почтальона. Из-за голенища сапога торчит нагайка — чтоб никто не сомневался, с кем имеет дело. Вертит большой стриженой головой, кричит, командует. Но никто его не слушает. Бойцы вокруг мечутся — не столько, чтоб что-то сделать, сколько — чтоб согреться. Подвозят к вокзальным ступенькам чёрную от дыма полевую кухню, разжигают, прогревают пищу. Дождь не прекращается с ночи, не стихает, заливает огонь. Бойцы достают откуда-то большой тент с рекламой местного пива, натягивают над кухней, сами тоже забиваются под него. Алексей Елисеич стоит под холодным январским небом и не знает, как быть дальше: спрятаться под тент и оказаться на одном уровне с подчинёнными, уронить авторитет, так сказать, или остаться на улице и окончательно промокнуть. Тяжёлые холодные капли стекают по толстым небритым щекам. Стоит и зло обзывает бойцов. А те в ответ тоже обзываются, становится понятно, что это у них такая манера общения — чрезмерно эмоциональная, что ли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу