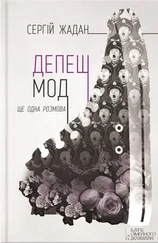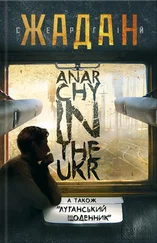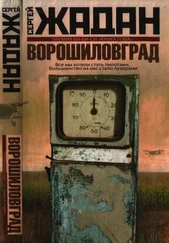+
Как в марте. Неспокойно и тревожно. И дышать больно от понимания того, что всё может быть, всё может произойти. Что вот достаточно отъехать отсюда за ближайший семафор — и начнётся новая жизнь, совсем не похожая на ту, которой он живёт, к которой привык. Хотя он всегда любил свою станцию, сухую зелень лета, тёмную от машинного масла траву, запасные пути, теряющиеся в цепкой траве. Любил голоса станции, её запах. Небо над хозяйственными постройками. Вагоны, похожие на дома, обитатели которых не могут найти себе места, перебираются с одного на другое, испытывают судьбу. Осень он тоже любил. Осень на станции была строгой и серьёзной. Осенью все встречались после длинных летних месяцев, после пыли и солнца, и заметно было, как все выросли за лето, как изменились. А потом из окрестных огородов и с дачных участков, из дворов и скверов несло дымами: жгли сначала бурьян, затем листья, осыпавшиеся с высоких деревьев. Воздух становился холоднее, горчил, извлекалась зимняя одежда, начинались дожди, земля намокала, передвигаться становилось трудно. Да и не было куда особо передвигаться. Но зима опять делала жизнь на станции весёлой и солнечной: рвы за складами и дорожки вдоль речки засыпало снегом, сама речка подмерзала, холодное течение двигалось под серым льдом медленно, как кровь во сне. По утрам прикатывали локомотивы — покрытые снегом и инеем после ночных перегонов, пробившись сквозь туманы и заносы, уставшие, но неостановимые, готовые и дальше тянуть бесконечные вереницы вагонов. Солнце стояло над крышами и колеями, путейцы весело ссорились, они, школьники, убегали с уроков, перебирались по насыпи, выходили на холмы, тянувшиеся вдоль замёрзшего русла. Солнце зависало в самой высокой точке неба, зимой его постоянно не хватало, нужно было за ним охотиться, вылавливать из морозного пространства. Время от времени из снегов вываливался очередной поезд, рвался натруженно за горизонт, оставляя после себя золотые вихри инея, соединяя известное с неведомым.
Но весной всё так или иначе менялось. Воздух становился другим. Он страгивался с места, перемешивался над станцией, и в загустевшем, застоявшемся пространстве раз за разом протекали электрические потоки чего-то неизвестного, чего-то такого, что бросало тебя вперёд, заставляло сердце биться чаще. Вечерние фонари горели отчаянно и обжигающе, от реки поднимался туман, локомотивы в темноте двигались осторожно, как собаки. В марте он всегда терял покой, в марте хотелось выбраться отсюда, побросать в сумку вещи и отправиться первым вечерним в неизвестном направлении — исчезнуть в зелёных сумерках, раствориться, двигаясь за солнечными потоками. Весенними вечерами их всех тянуло на станцию, к её дорожным запахам и транзитным огням. Многоголосая подростковая компания отиралась под вокзальными стенами, резко реагируя на замечания взрослых, непокорно подставляя молодые стриженые головы навстречу всем ветрам и продувным сквознякам. Бессмысленные разговоры, бездумный смех, ничем не мотивированное счастье — именно так всё и должно быть весной, когда тебе четырнадцать, именно так всё и было.
И не было ничего другого. Ни флагов над станцией, ни злости в разговорах взрослых, ни границ, ни размытых временем портретов на Доске почёта. Ни пустых прилавков в холодных магазинах, ни тёмных лиц в телевизорах, ни лживой прессы, ни паскудной утренней жрачки, которой приходилось перебиваться семье. Был только свежий, как вода утром, воздух марта, воздух, который отогревался после зимы и состоял из сладкой веры в то, что всё только начинается, что дальше будет только лучше и чем дальше — тем лучше, да и теперь, сейчас, вот тут, в заплёванном сквере, среди чёрных снегов, в черноте, наполненной птичьим криком и сигналами локомотивов, — здесь тоже всё хорошо, всё неимоверно хорошо, всё так, как нужно, чтобы ощущать в воздухе потоки счастья, смешивающиеся с потоками голода.
Мир простой и понятный. Его ровно столько, сколько ты сможешь ощутить и охватить своей памятью. У него чёткие очертания и прочные границы. Границы эти пролегают совсем рядом — за ближним строем холодных деревьев. Там, дальше, за этими видимыми границами, начинается что-то другое — что-то совсем чужое, непонятное и потому малоинтересное: неведомые тебе люди, не касающиеся тебя обстоятельства, не прояснённая для тебя страна. Тут наоборот — всё на своём месте, всё можно познать на ощупь, всё прочитывается по голосу. Дом, наполненный тысячью предметов, вместительный и выученный наизусть, до последней пуговицы в ящике на чердаке. Семья, к которой привык так, как привыкают к собственному телу. Родители — ещё живые и здоровые, от которых всё больше отдаляешься, которые всё меньше тебя понимают, хотя это ни в какой мере тебя не волнует, достаточно того, что они просто где-то есть, где-то рядом, оберегают тысячу привычных для тебя с детства предметов, причастны к тысяче известных тебе с детства голосов, поэтому пусть отдаляются, пусть не понимают — в этом мире им всё равно найдётся место, хватит времени, чтобы всё поправить, хватит пространства, чтобы не мешать друг другу. Хватит места для школы — с её мертвенным духом подогретой еды, с гулкими вечерними коридорами, с близостью и отчуждением. Хватит места для друзей и знакомых, для необязательных разговоров, недолгого увлечения, неосознанных страхов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу