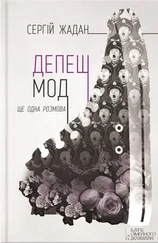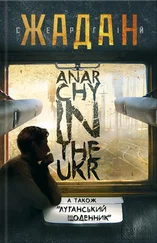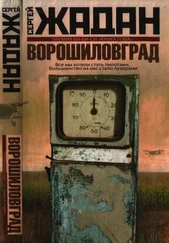Для врагов тоже место найдётся, для обид, для позора, для последних подростковых слёз в подушку, которые никто не видит, но которые сам ты никогда не забудешь. Всему хватит места, потому что так всё и создавалось. Всё поместится, ничего не будет лишним. Главное — не выходи за границы, держись за этот ломкий мартовский свет, так быстро кончающийся, заглядывай в станционные окна, словно в аквариумы с монстрами, бери от жизни то, что приготовили специально для тебя.
Вырастала сестра, взрослели одногодки, уходила в прошлое школа, впервые нужно было оторваться от этого мира, выбраться из него — в город, на учёбу. Этот выход за границы собственного кокона, за границы понятного оказался первой катастрофой, травмой, которая потом сопровождала его на протяжении долгого времени. Ведь менялись не просто адрес, не просто обстоятельства — менялись представления о мире, о его границах и возможностях. Вдруг оказалось, что мир намного больше, чем ты себе представлял, и намного опасней. Вдруг оказалось, что он состоит из множества неизвестных и не понятных тебе объектов, что его язык состоит из тысячи неведомых тебе слов, и вот прямо сейчас необходимо все эти слова учить, учить и использовать, иначе не выживешь, не вернёшься оттуда домой. Вынутый из своей скорлупы, вымотанный из кокона, он стоит посреди пустой и чужой ему страны и не может понять, как быть дальше, как выстоять против этого невидимого давления, которым его выталкивает из реальности. Шок и отчаяние охватывают его, больше всего ему теперь хочется вернуться лет на десять назад, в свою старую одежду, к своим детским вещам, к своим укрытиям. Ну а в семнадцать страх проходит сам собой, ты преодолеваешь его естественным желанием выжить, выгрызть свой кусок справедливости. Он постепенно привыкает к большому городу, к чужим людям, к новым обстоятельствам. Разве что одно: при первой же возможности, по любому поводу сбегает домой, добирается на перекладных, будто холодная пружина выталкивает его из новой жизни назад в его кокон, назад в его зону покоя. Приезжает, закрывается в своей комнате, ничего никому не говоря, игнорируя родителей, не замечая сестру. Так, словно молодой подросший кенгуру пытается забиться обратно в мамин карман, но элементарно не может там поместиться, что, ясное дело, вносит определённое напряжение в семейные отношения.
В выходные всё было, как раньше: те же деревья на горизонте, то же небо над крышами, тот же самый запах прошедшего. Вот только скорлупа была безнадёжно разломана, мир был разломан, и сложить его целиком было уже невозможно.
Отмучившись пять лет, он вернулся назад, на станцию. Начал преподавать в школе. Некоторое время не переносил запах в столовой. Потом смирился, что это отныне будет его запах — пережаренного и горького, равнодушия и отстранённости, запах чужой жизни, которую пытаешься выдавать за свою. Мир снова сжался до обычных размеров, дверь за ним закрылась, он снова был в безопасности. Не выглядывать наружу, не заговаривать с незнакомыми, знать месторасположение всех необходимых тебе вещей и предметов. Сладковатый запах газа на утренней кухне, шелест дождя за окном, словно отдалённая работа океана: в марте он каждый раз ощущал этот странный сквозной ветер, словно пружина упиралась ему в сердце. Рядом был совсем другой, чужой мир, настолько прекрасный, насколько и опасный, и вот это неумолимое его присутствие совсем близко, за углом, за горизонтом, лишало покоя и равновесия. Тогда Паша выходил на крыльцо, спускался в сад и слушал, как над деревьями идёт дождь, как он обступает, обваливается, как цепляется за тонкие ветки яблонь, падает ему под ноги — как может падать дождь только в марте.
+
Паша стоит на чёрном перроне и замечает, что дождь, начавшись с ночи, не думает прекращаться: выливается на город, наискось бьёт по металлическим товарнякам, по разбитым цистернам. Паша накидывает на голову капюшон и встаёт под козырёк вокзальной крыши, прижимается к стене. Два часа ночи, в здание вокзала возвращаться не хочется, но дождь становится всё настырнее, он начинается где-то за проспектом и тянется на север, в сторону Пашиной станции, выливаясь из выстуженного ночного неба. Хорошо, что можно переждать здесь до утра, думает Паша, ловя губами ледяные капли, куда бы мы сейчас пошли? Никуда теперь не пойдёшь, сиди и жди, надейся, что тебя не затопит, что удастся уцелеть. А что дальше?
Дверь вокзала со скрипом открывается, на улицу выдавливается пассажир. Именно выдавливается, как зубная паста: сначала пакеты, потом фуражка, затем он, придерживая ногой дверь, вытаскивается сам, оказывается на улице, ёжится от дождя, замечает Пашу, идёт к нему. Старая офицерская фуражка с оторванной кокардой, тёмная шинель железнодорожника, точнее железнодорожницы, с женского плеча, в руках — пакеты из супермаркета, в пакетах, насколько можно понять, тоже пакеты, куча пустых пакетов, смотанных и перекрученных, как кишки. И на ногах у него, на чёрных от пыли кроссовках, тоже намотаны прозрачные пакеты, как больничные бахилы. Чёрные ногти, чёрные зубы, тягучая улыбка. И глубокие морщины на весёлом лице. Ага, ещё и борода. Как у Карла Маркса. И волосы лезут из-под фуражки, лежат на плечах, осыпаются, как хвоя с новогодней ёлки, простоявшей в тёплой комнате до весны. Ставит на землю пакеты с пакетами, достаёт из кармана недокуренную сигарету, зажимает её своими чёрными зубами и тянется лицом прямо Паше под руку:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу