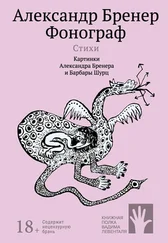Анатолий Осмоловский, со своей усталостью, мрачностью, унылостью, и пальцем бы не пошевелил ради чистого куража, поэтому он и стал важным художником, профессионалом. Он делал московскую и международную карьеру, не очень гладко, но делал — со всеми необходимыми оглядками и обмолвками, со всеми нужными ритуалами. Поэтому-то его искусство такое аккуратное, занудное, как надгробия.
Все могучие художники русского авангарда — Малевич, Филонов, Татлин, Ларионов, Шаршун — оказались столь могучими именно из-за неистребимого в них, благодатного детского элемента. Да, конечно, все они были ещё и прилежными учениками, подвижниками, еретиками, мастерами, противоречили западным образцам, боролись за себя, росли как бы на пустом месте, как гигантские грибы на шаламовской Колыме, были по временам этим и тем, всем и ничем — но прежде всего они умудрились сохранить в себе детство, играющее дитя. Так это, кстати, формулировал и сам Малевич. Он называл Чёрный Квадрат — своим дитятей.
Они, эти русские, знали, что без игривого, наглого, зверского, ребяческого элемента они — пустяки, русское приложение к новейшему западному искусству. Но нет, они этим приложением не были. Русское у них равнозначно детскому.
Детский элемент — опасен. Он — неуправляем.
9.
Однажды майским московским вечером 1994 года я встретился с Александром Ревизоровым у Музея кино на Красной Пресне. У него в руке была сумка, и он вынул из неё пистолет. Самый настоящий пистолет, с настоящими пулями. Мы рассматривали его и улыбались.
Потом мы направились к ряду торговых ларьков — их там было много, они располагались рядом с метро. Уже стемнело, в ларьках горело электричество. Мы выбрали ларёк, заставленный бутылками с водкой, вином, ликёрами.
Просунув в окошко ларька дуло пистолета, мы потребовали у продавщицы дневную выручку. Помню её испуганное лицо, успокаивающие жесты. Она вытащила банкноты из ящика для сигар и сама всунула в нашу сумку.
Мы побежали.
В тот вечер мы даже не пошли в ресторан. Просто купили в другом ларьке бутылку виски и плитку шоколада, и пили, сидя на скамейке в каком-то дворике. Возбуждение одолевало, мы хохотали и паясничали, пьянея, и соображали, что бы ещё предпринять с этим пистолетом и с нашей новооткрытой вольницей. Мысли были далеко от современного искусства, от всех выставок и инсталляций, от какого-нибудь шибздика Виктора Мизиано… К чёрту искусство!.. Отправиться бы с пиратами на поиски приключений!
Ошибки, ошибки, одни ошибки…
Ревизоров сидел потом в тюрьме…
Зубаржук утонул…
Я — выжил, но карьера моя — в разбитом корыте… Или она — на дне океана, где и все пиратские шхуны?
Что же касается плохого настроения Анатолия Осмоловского, то ему, я думаю, не было — и не может быть — конца. Пиявка успеха никогда не устаёт сосать. Попорченная идейкой успеха кровь приливает к голове, не даёт покоя, отвлекает от настоящего, рискованного творчества, которое всё-таки ищет совсем иной славы, иного удовлетворения, чем тупой, гнилостный успех, проповедуемый сегодняшним днём. Да и что значит «слава»? На этот вопрос не печатавшийся при жизни поэт Александр Введенский, несомненно, мог бы ответить лучше, чем Андрей Вознесенский, кумир стадионов.
Но Толик Осмоловский почему-то этого не понимает. Или я ошибаюсь?
Толик — ты ведь мальчишка!
Детским голосом — отзовись!
Картинки Паши Пепперштейна
В детстве перед сном я всегда хотел убежать.
Куда?
В картинку. Возле кровати.
На картинке этой был город.
С крепостями.
С черепичными крышами.
С трубами для каминного дыма.
С окошками и ставнями.
С кирпичными красными стенами.
С сапогами-вывесками.
Безымянный город — на картинке без названия.
С тех пор обожаю картинки: лубки, Бердслея, средневековые миниатюры, Джона Тенниела, Федотова, Гранвиля, Доре, Хогарта, комиксы, Калло, Конашевича, Георгия Нарбута, иллюстрации к Пиноккио…
Гравюры Дюрера, работы Клее для меня — тоже картинки.
Поэтому Павел Пепперштейн — мой самый любимый московский художник. У него прекрасные картинки — смутные, чарующие, рассказывающие всякие истории, кокетничающие, нежные, грубоватые, сомнамбулические, соблазнительные, игривые, литературные, бормочущие, узнаваемые, косноязычные, умничающие, инфантильные, старческие, отсылающие к другим авторам, косные, разочаровывающие, пресные, снова околдовывающие…
И сам Пепперштейн такой же — умно помалкивающий, уклончивый, прячущийся к себе в спаленку, убегающий в Прагу или в Коктебель, заслоняющийся книгами, завязывающий шнурки на ботинках, чтобы отвязаться от назойливой публики, раздающий автографы, хитрый, самовлюблённый, ревнивый, изворотливый…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу