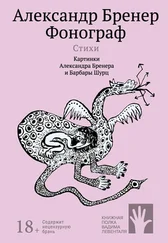Когда я впервые попал в его захламлённую, милую квартиру в Москве, то сразу же решил остаться там навсегда: мыть для Паши посуду, есть с ним бублики с маслом, класть ему на колено руку, ходить за ним по пятам, разговаривать, спать с ним в постели…
Но Пепперштейн не проявил к этому особого интереса.
Воробьи, как говаривал Серж Шаршун, с детьми ведут себя тоже по-детски. К сожалению, Паша повёл себя со мной как старшеклассник с молокососом, по-учительски.
Кстати, мне всегда нравился и Пашин отец — художник Виктор Пивоваров. Он, как и Паша, понимает ценность картинки, знает, что в основе истинной картинки — ребяческая тайна.
Не потому ль, что я видел на детской картинке
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю ещё про себя, под сурдинку:
«Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива…»
Настоящая картинка — это волшебный мир, куда хочется сбежать, но пути туда запечатаны, и чтоб они открылись, нужно волшебное слово: «Сезам, откройся!» Нужна правильная абракадабра!.. А вот Константин Звездочётов этого не понимает, поэтому его картинки — иронический бидермейер.
В далёком 1992 году я напросился не к Звездочётову, а именно к Пепперштейну — из-за волшебства Пашиных картинок. И думал: вот взгляну на эти рисуночки — и стану с ним в этом чарующем мире жить-поживать.
Это было замечательное свидание.
Я шёл к нему, как волхв Бальтазар, — чтобы положить перед Пашей дары восхищения. «Пепперштейн» — это слово звучало для меня как имя Вифлеемской звезды. После израильского разочарования Пашин многоэтажный дом — московская высотка — виделся как истинная земля обетованная. Башня Готфрида Бульонского, крепость Хасана ибн Саббаха…. Ух, как я любил Пашу!
Он открыл дверь. И стоял в её проёме — святой старичок-младенец. Он не улыбнулся, но всё-таки пригласил меня в своё жилище. А я смотрел в Пашин рот, как в пещеру, из которой вот-вот засветит волшебная лампа Алладина. Но вместо лампы оттуда вылезла рука Ильи Кабакова и погрозила мне пальцем.
Паша не принял мою любовь.
Мы пили с ним чай, сидя на кухне. Стол был усыпан хлебными крошками, исполосован кухонным ножом, и это тоже выглядело пленительно, чарующе. Я думал, что вижу перед собой гения. В самом деле, в Паше проступали смутные черты гениальности: его очаровательное косоглазие, его сбившиеся в колтун кудри, его голос, похожий на гудение пчелы. Но, увы, он этим голосом не пел, не шелестел, а только вещал — как учительница геометрии.
Настоящие гении не вещают!
Когда он вышел из кухни в туалет, я представил его член, и мне захотелось попробовать его на вкус, на запах. Но я испугался, не попросил его об этом.
Потом, когда я стал бегать по Москве и хватать людей то за нос, то за жопу, Паша объявил меня гладиатором. Это была полуправда: да, я — пролетарий, плебей. Но я хотел не только театра жестокости, я хотел также и рекорд нежности. Мои гладиаторские бои не были заказаны никаким цезарем, и я не сражался на забаву толпы. Я был восставшим гладиатором, Паша. И хотел войти через игольное ушко бунта в царство нежности — с тобой, с Осмоловским, с Рембо. Ты, Пепперштейн, очень умный, но тебе иногда не хватает мозгов. Ты должен бы понимать, что есть на свете такое, чего ты не понимаешь. Возможно, тебе нужен не ум, а — мысль.
Вот так. Мне с моим принцем П.П. оказалось не по пути.
Но ведь я-то думал, что он — и принц, и нищий! Это было бы так здорово! Но нет.
Паша, как я его сейчас вижу, никогда не был Вифлеемской звездой или Хасаном ибн Саббахом, но он был, конечно, самым талантливым и артистичным среди московских малодушных художников. Он был настоящим умницей. Гений — это Кафка. А Паша — милейшая, тончайшая, слегка снобистская художественная добавка. Шавка, малявка, прибавка, разбавка? Нет. Это Лейдерман рядом с ним — дисциплинарная топорная шавка. А Паша — талант.
Монастырский, зачем же ты связался со всей этой кликой?
Павел Пепперштейн — человек деликатный, чувствительный, нежный и изощрённый, а художник он — полуночный, послеконцертный, посттелевизионный, меланхолический. Он любит сказки и поэзию, а искусство считает удовольствием. Правильно, так думал и Пикабиа! И Дюшан! И Бродэрс! А ещё, в отличие от болтающих об истории учителишек вроде Гутова, у Пепперштейна есть истинное чувство истории и её конца. Отсюда его невыдуманная меланхолия и все эти девочки, офицерики, попы, цари, шерлок холмсы, руины, могилки, белочки, баночки… Искусство Паши — интеллигентская изысканная ностальгия, продукт высочайшей гастрономии из ресторана «Прага».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу