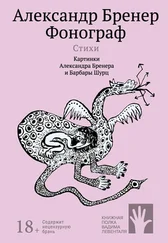Я сидел на стуле, слегка оглушённый.
В те времена я кое-что знал уже о судьбе Уильяма Блейка, знал о Нервале, Лотреамоне, Рембо… Читал я кое-что и о богеме, непризнанных художниках, проклятых поэтах, отщепенцах. Я даже в прошлой жизни дружил кое с кем из них. Но я не открыл ещё ни «Общество спектакля», ни «Жизнь тёмных людей» Фуко, не знал об апологии маргинальности Делёза, не думал о жизни Кафки или Улитина. Зато я презирал Вознесенского, считал его слабым поэтом, а Евтушенко держал за продажную шваль. Я не мог точно и ясно ответить Осмоловскому, почему мне так ненавистен его пример со стадионами, но я понял, что он — не совсем панк, не такой уж революционер — и, возможно, не тот хулиган, каким я его вообразил.
6.
Самое смешное, что в это время я и сам вдруг ощутил вкус «успеха». По совету художника Гии Ригвавы Марат Гельман устроил мою выставку в своей галерее. Выставка называлась «Моё влагалище», и к вернисажу Гельман издал мою поэму в испорченном виде. Книга была напечатана с фотографиями Олега Мавроматти, и мои стихи оказались почти нечитаемыми. Гельман считал поэму порнографическим опусом, боялся навредить себе её изданием. Потребовалось уверение Ригвавы, что стихи эти — поэзия, искусство. Но Гельман всё равно трусил, и потребовал у меня «визуальности». Я придумал ход с фотографиями, но сейчас мне противно, что я поддался давлению галериста. Он ведь просто хотел спрятать стихи в фотографиях, в оформлении книжки. А я, дурак, пошёл на это. Вот вам и желание успеха, ёб вашу мать!
Тем не менее выставка имела успех. Критик Екатерина Дёготь написала положительную рецензию. Публика на вернисаже, где я размахивал своей громадной фотографией-силуэтом, радостно волновалась. Гельман выразил горячее желание продолжить сотрудничество со мной.
Так я стал московским художником, хотя прекрасно знал: никакой я не художник. Рисовать я тогда не любил. Лепить — тоже. Концептуалистом никогда не был. Выставки меня интересовали только как весёлое времяпрепровождение, как приключение. В свою карьеру художника я ни минуты не верил.
Но разве существует настоящий успех без карьеры?
В начале 1990-х годов в Москве, где не было современного художественного образования, не было современных институций и инфраструктуры, где всё зависело от настроений пары-тройки вздорных кураторов, люди, однако, уже смекнули: современный художник невозможен без международной карьеры. Если не умеешь говорить на новоязе западных художников, нужно хотя бы этот новояз симулировать. Анатолий Осмоловский понял это одним из первых и постепенно стал едва ли не лучшим в гонке за успехом, престижем и признанием.
Это не значит, что он — плохой художник. Каждый художник заслуживает того места, которое занимает. Осмоловский занимает весьма почётное и авторитетное место по праву. Но нужно бы понять, что это место означает. Понять — то есть критически осмыслить. Критика — это ведь битва с иллюзиями.
7.
На один смехотворный момент я тоже стал «успешным» московским художником. Но и я, и Ригвава, и Толик, и даже такой кретин, как Гельман, очень быстро поняли, что мой взлёт в качестве художника — эфемерен. Я обладал удивительной способностью не нравиться людям и портить с ними отношения. Я был выскочкой в московской артистической среде, люди считали меня самозванцем, авантюристом. Я же, в свою очередь, этих людей нисколечко не уважал. Они не соответствовали моему представлению о художниках, теоретиках, критиках. Я уважал Павла Филонова, а не Константина Звездочётова, Николая Пунина, а не Андрея Ковалёва.
Но и это было не главное. Главное заключалось в том, что во мне вдруг проснулся и разыгрался хулиган и ребёнок. И я был страшно рад, что во мне открылся этот элемент. Я даже могу сказать Толе Осмоловскому «спасибо» за это. Глядя на него и от него отталкиваясь, я стал настоящим хулиганом. И я думаю, что все эти московские художники тоже рады были бы увидеть в себе играющее дитя и, наверное, встретили бы его криками восторга. Но каким-то образом, в результате осознания необходимости карьеры и успеха, дитя в этих господах разучилось играть — и умерло. Исчерпалась, выдохлась бесшабашность творчества, и жизнь уступила место халтуре и рутине. И умные господа, в которых дитя перестало резвиться, довольно быстро загнулись и скуксились.
8.
Я так и считаю: Анатолий Осмоловский одомашнился.
Не то плохо, что он пытался использовать мальчиков Зубаржука и Ревизорова для собственных целей, а то, что он не сумел, не знал, как именно их использовать. А использовать их можно было только одним способом: воспринять их детское, ребяческое начало — самый бескорыстный, весёлый и бесполезный их элемент. А Толик хотел взять у них какие-то идейки, проектики. Но какие проектики были у Ревизорова, кроме детского-то духа? Однажды Зубаржук и Ревизоров то ли стащили, то ли купили в морге человеческий мозг и прибили его к асфальту позади памятника Маяковскому. Прибили просто так, для собственного удовольствия и чтобы выебнуться, и, кажется, даже свой акт не сфотографировали. А как мог не задокументировать свой перформанс Анатолий Осмоловский? Или, скажем, Кулик? Или Лейдерман? Или Надежда Толоконникова? Или Пётр Павленский? Ведь для них произведения без документации не существует! Документация важнее акции! Поэтому-то их произведения такие скучные, насильственные, несчастные.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу