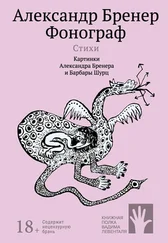Я ушёл.
И больше никогда не видел Маршанского.
17.
В гостинице «Минск» я прожил ещё с неделю — до самого Нового года, и ещё чуть-чуть.
Утром пришла женщина из администрации и объявила, что номер должен быть освобождён в течение часа. Я пытался выведать у неё, в чём дело и что с Игорем, но она ничего не сказала.
Я собрал пожитки и поехал в мастерскую к Хальфину. Он познакомил меня с миллионером — может быть, он что-то знает.
Рустам выслушал мой рассказ, покачал головой, поцокал:
— Вот так Игорёк… вот так музыкант… вот так коллекционер…
Оказывается, Маршанский приобрёл не только графику Пепперштейна, но и несколько холстов Хальфина.
Позднее, от того же Рустама, я услыхал: Маршанский исчез — с концами, словно в прорубь провалился.
Говорили, что он с 5-ю миллионами убежал в Швейцарию — но слухи остались неподтверждёнными. Якобы давненько уже был он связан с бандитами, платил им, угождал, и вот — попал в немилость.
Слухи, домыслы.
Ясно, впрочем, что ни Щукиным, ни Морозовым бывший музыкант Маршанский не стал.
Зато я вскоре сделался московским художником.
Страдания юного Осмоловского
1.
Жизнь моя — без начала и конца — была сплошной ошибкой.
Рассказы эти — воспоминаний палимпсест — тоже ошибка.
Ничего, кроме ошибок, я вроде бы и не знаю.
В жизни-лесу, я, не Данте, затерялся в стволах-ошибках!
И были Вергилии, да тоже не те.
Вот, например, встретился я в Москве 1992 года с молодым человеком по имени Анатолий Осмоловский — и сразу захотел взять его себе путеводителем.
Вы спросите: куда?
А чтобы вывел он меня из туманного леса моего одиночества и слепых блужданий, моего неведения и конфуза — на солнечную поляну, где есть травка, солнце, просвет.
Где есть доступ к дальним горизонтам.
Плутать средь зарослей ошибок — разве это не трудно?
А иногда и очень-очень страшно.
Вот я и уверовал в молодого Толю Осмоловского — как в бога юного уверовал. Он был очень красивый, очаровательный.
Встретились мы с ним на какой-то выставке на Чистых прудах и пожали друг другу лапы. Он был бледный, неухоженный, с запущенной шевелюрой, похож на панка. Какой-то не от мира сего. И померещился он мне чем-то совершенно другим, чем я сам тогда был. Я был взрослый, но — беспомощный младенец, с опытом эмиграции, но — без ума (в грибоедовском смысле), читавший разные книжки, но — духовный зародыш.
А Осмоловский был юный, с импульсивными движениями вожака.
Вот я и подумал: Толик — мой Вергилий. Толик, выведи меня!
Он мне представился Заратустрой, знающим путь из болот и низин — на горные вершины.
В то время я остро почувствовал, что мне нужна банда, шайка. Не в криминальном, конечно, смысле, но — в беззаконном, неподвластном никому, неуправляемом. Чтобы были мы заодно против всего света. В одиночку, думал я, мне в этом городе не выстоять. А вот бандой, ватагой мы сможем нападать и исчезать, как арабская конница, как сюрреалисты, как чёрные пантеры какие-нибудь.
Конечно, мысли мои были смутные, незрелые, но импульс — к тайному сообществу, к отколовшейся группе, к совместному творчеству — верный. И чтобы группа стояла совершенно вне общества!
С этими надеждами я и пришёл домой к Анатолию Осмоловскому.
2.
Он жил тогда на Курской, в коммунальной квартире с каким-то ужасным алкоголиком, в страшной грязи и вони. Его тёмная, занавешенная комната была завалена пустыми банками из-под кока-колы и остатками пищи. На столе среди объедков и окурков лежала биография Бухарина, сборник статей Троцкого и, кажется, альбом Сикейроса. Были и другие книги — о революции и о современном искусстве.
Толик лежал в постели утомлённый, но алчущий. Он хотел побольше узнать о моей жизни, о заграничных скитаниях, об идеях в голове. А я смущался, мямлил. Ведь он сам, во плоти, казался мне самой лучшей, сияющей идеей, на которую я когда-либо наткнулся.
Осмоловский был новой, восходящей звездой московской художественной сцены. Он с друзьями выложил ХУЙ на Красной площади! Своими телами ХУЙ выложили!
О нём говорили как о дерзком молодом даровании, левом радикале, революционере, смельчаке, пришедшем на смену выдохнувшемуся концептуализму. Куратор и критик Виктор Мизиано слушал Толика чуть ли не на коленях — с молитвенно сложенными ладонями.
Я всегда ощущал себя чужим в любой социальной среде — литературной ли, художнической, или активистской. И Толик тоже не слишком дружил с профессионалами, предпочитая молодых людей люмпенского склада — мне это очень в нём нравилось. Молодость — она превыше всех занятий, рангов и принадлежностей. Молодость — это не возраст, это — концепт освобождения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу