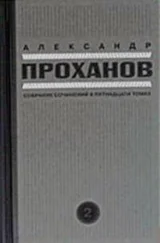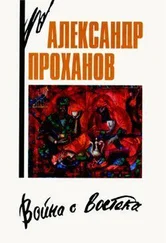Над барханами, в ночи, поднимались бесшумные соцветия. Качались, плыли на невидимых стеблях. И, если прислушаться, долетал едва уловимый, далекий звон. Все небо было в порхающих, слабо звенящих кругах.
Губы ее были мягкие, теплые. Ночной ветер летал над нами. Возносил разноцветные хороводы.
Заповедник спал под гаснувшей лупой, стекла лабораторий начинали топко светиться. Из крана сочилась розовая слюдяная струйка. Две мохнатые собаки бесшумно вились у старого, запорошенного песком транспортера. Я оставил ее, укутанную в овчину, спать, а сам, голый по пояс, с пилой, топором и рубанком мастерил топчан из разбросанных досок. Я упирался тесиной о камень, сдирая хрустящие стружки. Они пахли далеким смоляным лесом. Пустыня вокруг дышала медовой утренней свежестью, сквозила, золотилась песками.
Удар рубанка. Треск отлетающей стружки. И мысль: «Она, моя милая, спит там, укутанная, на прохладном гребне бархана. И это счастье, что можно сейчас пойти, наклониться над ней, приоткрыть кудлатый покров, увидеть ее лицо. И снова закрыть, оставив узкий прогал, чтобы солнце, взойдя, пустило в глаза ей зайчик и она проснулась. Но пока я один, из старых досок мастерю топчан, хоть на одну еще ночь».
Я думал, как вечером мы придем из пустыни, растянемся на нем горячими телами, облученными миллионами жарких песчинок. Закроем глаза, а в них потоки и струн света, бег чернотелых жуков, чешуйчатое дрожание медянки, опоясавшей кустик акации.
Она быстро уснет, а я буду смотреть на нее и на маленький огонь чабана, пригнавшего к водопою овец, смотреть, ловя бесшумный росчерк летучей мыши. И слушать в пустыне гул стальных высоковольтных опор и ход ночных поездов…
Пустыня быстро светлела. Собаки вскочили на кабину ржавого транспортера, ожидая восход.
Из дома вышли две молодые сестры-туркменки, служившие в заповеднике. Их старый отец в тяжелой темно-коричневой бараньей шапке, с сивой бородой, смугло-сухим носатым лицом, уже возился с деревьями. Они обе вышли, взглянув, как я строгаю, улыбнулись белозубо и, качая кувшинами, направились к крану за водой. Их зеленые долгополые ткани переливались при движении розовым, желтели рукодельные броши, в длинных материях свободно двигались бедра, из вырезов подымались прямые тонкие шеи, маленькие точеные головы с чернобровыми лицами.
Они открыли кран. Вода гулко забила в кувшины, наполнила, перелилась через край. Они наклонялись, подставляя в струю смуглые ладони, омывали свои лица, колыхали голубыми, расшитыми серебром рукавами, а потом обхватили пальцами горла кувшинов, мелькнули кольцами и плавно исчезли в доме.
Я строгал, радуясь женственности, красоте туркменок. Вкладывал в работу свое умение, бодрость, свои мысли о Людмиле. Думал, что через день мы уедем, а супруги Потехины унаследуют ложе, будут обо мне вспоминать. А потом и они уедут. И старый туркмен вытащит топчан на свободу, разрубит топором на куски и спалит в закопченных камнях под бурлящим котлом. А его дочки, зажав в коленях цветные платья, протянут руки к огню.
Я оглянулся. Она спускалась с бархана.
— Ты уже встал, мой плотник? Кибитку мастеришь или что? А меня разбудил солнечный зайчик!
Над пустыней скопился тончайший дым. Провисал из небес мутной пеленой. Казалось, она прогибается под тяжестью жара. Вот-вот прорвется, и пекло выльется на пустыню.
Мимо пропылила отара овец, серая, жаркая, молчаливая. Круторогий баран, укутанный в душный войлок, взглянул устало зеленым глазом. Чабан на лошади, темный, как печеное яблоко, мелькнул на бугре и скрылся. — Мне хочется пойти вон к тем огромным барханам, — сказал я. — Они меня манили вчера. Иначе так и не успею.
— Не ходи! Очень прошу! Каримов говорил, днем нельзя ходить в пустыню. Будет удар. Ну, пожалуйста, не ходи!
— Я быстро. Только туда и обратно. А ты приготовь мне кувшин холодной воды.
Далеко, за саксауловой порослью, подымались острые гряды гигантских барханов. Будто высились стартовые площадки для запуска огромных ракет. И уже пущены двигатели, и все колышется, стекленеет от жара.
Из песка мне навстречу поднялась на лапках длиннохвостая ящерица. Сбросила со спины сыпучие струи. Загнула спиралью хвост. Забила, задрожала им, как маленький рассерженный тигр. Кинулась было по песчаной гряде и снова застыла, повернув ко мне круглую костистую голову. Я поднялся на первый высокий бархан. Его язык впереди изгибался, как лопасть пропеллера. Врезанный в раскаленное небо, свистел и вращался, несся в рыжие горизонты. Я медленно двигался по отточенной кромке. Задыхался. Сердце во мне вяло ухало, как истрепанный, рыхлый ком. Кромка испарялась, дымилась песчинками. Казалось, бархан превращается в дым. А пустыня кругом белела, словно раскаленная спираль.
Читать дальше