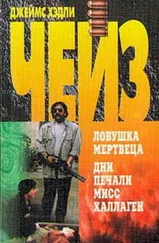Тишина проникла и в них, когда, глядя перед собой невидящими глазами, проходили они улицу за улицей, устремляясь к центру, и только на площади, залитой зеленоватым люминесцентным светом, смогли увидеть друг друга.
— Мне иногда кажется, что они не совсем… — проговорила Вера. Она больше не в состоянии была молчать.
Сквозь застывшее бесформенным куском черной лавы возбуждение просочилось в его душу, как тонкая струйка воды — сквозь щель в скале, желание сбросить с себя бремя непонятной тревоги.
Все еще находясь под воздействием причудливого сказочного мира, который только что покинул, он перенесся в другой, не менее иллюзорный, но чистый, светлый, раскинувшийся среди пестроцветных садов прошлого; его вполне можно было противопоставить настоящему.
— Много лет назад, когда я был еще ребенком, — заговорил Александров, — в нашем селе зимовал аист. Он чем-то поранил крыло и не смог улететь на юг вместе с другими…
Впоследствии, дома, когда, пытаясь заполнить пробел, образовавшийся в этой истории, Александров стал восстанавливать свой разговор с Верой, он с уже знакомым удивлением обнаружил, что память сохранила лишь отдельные, не связанные между собой реплики. Он не мог вспомнить ни своего состояния, ни, тем более, состояния собеседницы. Диалог, что звучал теперь в его памяти, был лишен реального фона, но фальши в нем не было. Воспоминание об аисте — это была его слабость — Александров использовал не впервые. Прячась за не относящимся к делу разговором, он преодолевал собственный гнев, избавлялся от страхов и разочарований. Но в этот раз он не собирался прерывать разговор с Верой, он хотел вернуться потом к ее словам и проанализировать их. Но «слабость» оказалась сильнее.
Александров: …Мой дед его подобрал и целую зиму выхаживал. Аист к нам привык, стал совсем домашний.
Вера: …Они свои изделия и не продают, и не дарят, копят их, словно скряги, а для кого?
Александров: Мы его гладили, и он ласки наши принимал. Дед лечил ему крыло какой-то мазью.
Вера: Это даже не хобби. Хобби ведь нужно человеку для удовольствия или хотя бы для забавы.
Александров: Когда становилось очень холодно, мы его брали в дом, и он дремал возле печки. А боялся он только кошку.
Вера: А может, они и правы, может, я их недооцениваю.
Александров: К весне он выздоровел и еще до того, как вернулись его товарищи, попробовал летать. Мы, ребятня, бежали рядом, подбадривали его криками…
В этот момент, созвучно с их подсознательным желанием, городские часы, словно в наивной мелодраме, пробили одиннадцать. Освещенные гостиничные окна одно за другим начали раскрываться, заманивая в свой уют.
— Мы пропустили и факельное шествие, и ночной кросс, и маскарад, — без особого сожаления вспомнил Александров, — нехорошо…
— Остался еще ресторан, — сказала Вера, — нас там, наверное, ждут.
Перспектива пойти в ресторан, пробыть там час или два, участвовать в каком-то разговоре ужаснула Александрова, хотя его мучил голод. И к тому же он понимал, что у Веры из-за него загублен вечер: ведь ей, наверное, хотелось побыть среди людей, развлечься. И все-таки он решил это предложение деликатно отклонить. Он хотел только покоя и был уверен, что утром обязательно возьмет реванш, но как именно — еще не знал.
— Боюсь, что я достиг предела своих возможностей, — проговорил с легкой самоиронией Александров.
Он не был уверен, что выкрутился наилучшим образом.
— Я пожилой человек, а сегодня так много всего было! Поэтому я устал и мечтаю об одном — поспать.
Вера, как ему показалось, подавила отвращение и поклонилась:
— Тогда спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — сказал Александров и пошел к гостинице.
С тяжелой, как после попойки, головой Александров выбрался из ночи; не открывая глаз, потянулся за стаканом с подслащенной водой, но обнаружив, что на обычном месте его нет, застыл в тихом недоумении. Извне обрушивались на него непривычные звуки. В коридоре гремели ведрами и швабрами уборщицы, скрипели двери, с ревом носился вверх-вниз лифт; и пока он располагал вокруг себя эти звуки, словно декорации, среди которых скоро придется действовать, начала болеть лодыжка. Видно, вчера перетрудил ногу. Боль в ноге отравила ему не одно утро, но на этот раз он почти обрадовался ей — единственной знакомой в незнакомом месте. Боль эта разбудила его окончательно, он встал и, не найдя домашних тапочек, пошел за ними босиком к чемодану. Солнце шло следом, грело спину и звало расслабиться, побездельничать, подурачиться. Босиком, в одной пижаме он подошел к окну. Площадь была пуста. Только что вымытая, она выдыхала прохладный пар, а за нею сгустилась краснота черепичных крыш, в которую вклинивались серые объемы бетонных зданий. Позади всего этого в воздухе парила синяя гора, ее вершина вонзалась в светлое небо. Яркие, подчеркнутые резкими утренними тенями краски ослепили его, и он поддался профессиональной привычке, начал подбирать слова, которые могли бы отразить эту красоту. Поплыли фразы, столпились эпитеты, глагол силился привести всю картину в движение. Но то был лишь миг, лишь мгновенно угасшая импульсивная реакция его обостренной чувствительности, не было условий, чтобы она стала началом процесса воссоздания. Предстоял напряженный день, богатый, быть может, новыми событиями, но наверняка не защищенный от возвышенных мучений творчества. В ожидании нового дня умственные силы сконцентрировались, и он заранее чувствовал, как истощатся они, когда неизвестная пока работа будет завершена.
Читать дальше