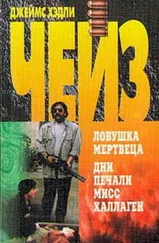Невдалеке, как приманка, звенело карнавальное веселье, и они поспешили броситься в него, добраться до самой его сердцевины и спрятаться там от собственного бессилия. Они блуждали в толпе, словно в лабиринте, но шутовское веселье карнавала теперь казалось им истеричным и уже не развлекало, а подчеркивало их молчаливость, обнажало одиночество. Александров, торопясь, заикаясь, принялся рассказывать про какой-то карнавал в Венеции или в Рио-де-Жанейро (ни в том, ни в другом городе он не бывал), увлекся, насочинял подробностей — красочных, сочных. Подсмеиваясь над собой, он говорил и говорил, но вскоре почувствовал, что Вера его не слушает, и тогда, пришпорив своего Пегаса, забыл все на свете, взлетел в самозабвенном порыве и так в конце концов выдохся, что даже не хватило сил удивиться, когда Вера остановилась перед низкими воротцами и сказала:
— Здесь мои живут. Зайдем на минутку.
Он чувствовал себя виноватым, потому что пытался обмануть и себя, и эту девушку, и теперь духу не хватило ей отказать. Он покорно пошел за ней по выложенной плиткой дорожке мимо клумб и кустов самшита, которые в уличном свете жирно поблескивали глянцевыми листочками.
В доме их не ждали, но своим появлением они никого не смутили. Верина мать, щупленькая женщина, повязанная платком на старинный манер, поднялась из-за стола. Она поздоровалась с гостем и сразу, без суеты усадила его на миндер [4] Лавка в крестьянском доме.
, на вязаную подушку. Мужчины, явно дед и отец, молча кивнули и опять склонились к своей работе. Никто из всех троих не коснулся Веры ни рукой, ни взглядом, да она, чувствовалось, и не ждала такой милости. Она поздоровалась с ними так, как здороваешься с людьми, которых видишь каждый день, но, несмотря на их холодность, Александров понял, что они давно не встречались. С уже знакомым ему независимым видом (еще одно подтверждение того, что они редко собираются вместе) девушка села на миндер напротив Александрова, устроилась поудобнее, готовясь слушать, а может, и дремать.
Как только он сел, вся энергия его кончилась. Он расслабился в теплой комнате, захотелось спать. Прикрыв глаза, он впал в оцепенение, и в этом оцепенении все — и как их встретили, и молчание, и сдержанность хозяев — показалось ему естественным. Никакой неловкости он не испытывал, ни о чем не думал. Ему было тепло, приятно, покойно…
Сколько длилось это затишье, он не знал; может, прошло несколько секунд, а может, и несколько часов, когда в нем шевельнулось странное, приглушенное ироничной двусмысленностью тишины любопытство, в котором не было, однако, желания открыть что-то новое или разгадать какую-то тайну, а было лишь стремление осознать себя в непривычной обстановке.
Дальше все происходило как во сне; увиденное запечатлевалось в нем четко, во всех подробностях, но общий смысл оставался неясен.
Александров увидел себя под вырезанным на потолке солнцем — пылающий лоб резного этого солнца лизали зеленоватые языки. Он осмотрелся: взгляд повсюду встречал обильно орнаментированные деревянные миски, пастушьи посохи, фигурки людей и животных, фляги, бочонки. Но вот, очнувшись от восторженного оцепенения, он понял, что глядит на посох, по которому извивается змея; голова с раздвоенным языком и темнеющими дырочками вместо глаз служила ручкой. И с такой тщательностью была выточена треугольная приплюснутая голова, что казалось, с языка того и гляди закапает яд. Как завороженный глядел он на это творение, порожденное мистическим ужасом и яростной верой в особую, нечеловеческую красоту, красоту, искупающую страх, или в красоту страха, признавшего свое поражение.
В комнате ничего не изменилось. Тишина все глубже продалбливала время, все больше втягивала Александрова в странное молчание. Но нет, что-то изменилось — исчезло спокойствие и тепло.
Стараясь ступать бесшумно, Александров переходил от предмета к предмету, и в каждом из них была какая-нибудь зловещая деталь, убивавшая веселость и непосредственность, свойственные народному искусству. Что-то подражательное, грубое было во всех этих вещах. Им не хватало чувства меры, чувства стиля. Обойдя все, он наконец остановился возле мужчин. Ничто не отразилось на их лицах, скованных фанатизмом, отрешенностью, прорезанных морщинами извечной суровости, хранящих следы красоты, что погибла в муках самоистязания. И хотя Александрова снедало любопытство, он не нагнулся, не посмотрел, что делают их руки, и ничего не спросил. С почти религиозным благоговением, к которому обычно примешивается робость, он двинулся к двери. Когда от неосторожного движения скрипнула половица, он вздрогнул. Вера сразу вскочила с миндера, и они вышли не попрощавшись. За их спинами еще плотнее сгустилась тишина.
Читать дальше