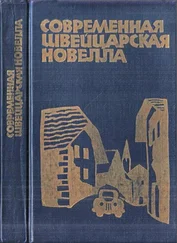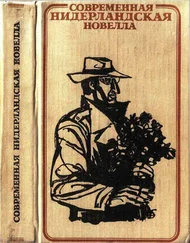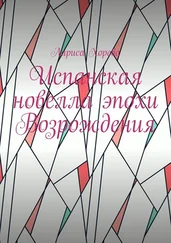— Вот тебе, получай и скажи спасибо, — он выстрелил в Грегорио — раз, другой, третий.
Затем бросил винтовку, спустился по лестнице и через черный ход вышел в поле. Его гнало одиночество, и он бежал, бежал, бежал. Словно хотел убежать от тех двадцати пяти лет, которые провел здесь.
V
Два дня он, точно волк, бродил в горах, питался ежевикой и плодами земляничного дерева. Скрывался в пещерах возле оврага, где жили летучие мыши. Сюда доносилось мычание быков, шлепавших по воде и камням. Загнанных быков, напуганных пожаром, заблудившихся.
На третий день он увидел въезжавшие в село грузовики. На них приехали те, другие. Они подавили революцию, о которой сообщила Мариана.
Он медленно спускался с гор, ослепленный солнцем. С отросшей бородой, чуя запах смерти. Едва он вышел на площадь перед замком, как увидел их: в мундирах, в высоких сапогах, с черными пистолетами. И старухи, которые когда‑то восхищались им: «Всегда причесан, в модных ботиночках», которые потом говорили: «Совсем спятил!», теперь снова указали на него. Они выволокли за ноги, будто мешки с картошкой, раздувшиеся тела алькальда и священника. И, ткнув грязными, скрюченными пальцами в него и трех младших сыновей Беренгелы, закричали:
— Убийцы! Убийцы!
Его так и схватили — с отросшей бородой, в распахнутой на груди рубашке.
— Позвольте мне взять одну вещь, — попросил он.
Под конвоем его отвели в дом Марианы. Он поднялся в свое логово, снял с прутьев кровати галстук и надел на шею. Когда грузовик тронулся с места, глаза его были закрыты, руки связаны за спиной.
Их выстроили на берегу реки, троих сыновей Беренгелы и его. Воздух был теплый и душистый. Младший из сыновей Беренгелы, которому едва исполнилось восемнадцать, крикнул ему:
— Предатель!
(Где‑то был человек с поднятой вверх рукой. Человек с поднятой вверх рукой, разрезанный сверху донизу тупым ножом ребенка, неразумного головастика, песчинки, затерявшейся в целом облаке пыли.) Теплый июльский ветер унес с собой эхо выстрелов. Он покатился вниз, к реке, и вдруг понял, что, лишенный другой любви, он всегда любил реку с ее камышами и желтым дроком, с ее круглыми валунами и серебристыми тополями. Реку, где все еще мычали и шлепали чуть выше по течению напуганные, покорные быки. Он понял, что любил ее и что именно поэтому столько раз приходил сюда и смотрел, смотрел на нее, когда наступали холода.
РАССВЕТ (Перевод с испанского С. Вафа)
Нет, им не следовало идти навстречу начинающемуся рассвету. Ему уже было десять лет. Он успел познать голод, холод и страх. Мать пришла, едва лишь забрезжило. Бледная, худая, в движениях незнакомая резкость. Старуха, увидев ее, заплакала. «Теперь я останусь совсем одна…» — сказала она.
Мать подошла к сыну. И стала надевать на него пальто, как делала это, когда он был совсем маленьким. С необычайным спокойствием тщательно застегнула все пуговицы. Как холодны были ее пальцы! Как твердо сжаты губы! Он не посмел ни о чем спросить, только смотрел на нее так, словно хотел навсегда сохранить в памяти образ матери. В синих брюках, кожаной куртке, с коротко остриженными, взъерошенными волосами, она походила на мальчишку.
— Мама, — наконец сказал Ремо, чувствуя, как леденящая душу тревога начинает сводить его с ума. — Мама, День кончился?
Мать крепко прижала его к себе. Куда делась ее мягкость?
Казалось, будто она сделана из стали: словно небо, словно оружие.
— Ты был рожден для Дня, но мы не сумели тебе дать его. Жаль, что тебе приходится расплачиваться за наше поражение. Идем со мной, Ремо.
Матери больше не существовало. Осталась только Женщина, которая вела его по улицам города к окраине. Свет зари был белым, зимним. Ремо ничего не понимал. Слово «поражение» никак не вязалось с Человеком. Никак. Он ничего не понял, не понял и того, что произошло потом.
Там, в предместье города, у мокрой автострады выкопали глубокую канаву. В нескольких метрах от нее возвышались развалины крестьянского дома Двенадцать мужчин, согнувшись под тяжестью мешков, перетаскивали песок оттуда в канаву. Сквозь холод снегов пробирался рассвет. Странная тишина царила вокруг.
Женщина спрыгнула в канаву; его кинули туда, точно маленький труп. Мужчины разобрали винтовки. Установили старый пулемет. Где‑то запищала вздорная птица, а там, наверху, небо окрасилось в розовый цвет.
Ремо лежал неподвижно, будто и в самом деле был мертв. Должно быть, так он пролежал довольно долго. Выстрелы для него давно уже стали привычной музыкой. Прекратись они, и ему бы не хватало их сухой барабанной дроби. Он не испытывал страха.
Читать дальше