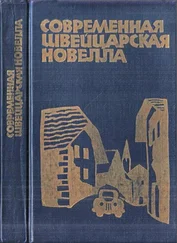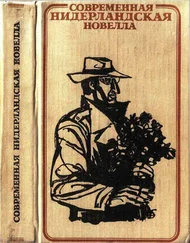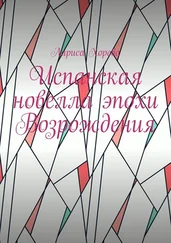Прежде чем предать ее казни, ей как приговоренному дали покурить. Сначала затянулся мальчик, потом — он, потом — летучая мышь.
Так прошло утро, и он отправился домой есть скверную пищу, которую готовила ему Мариана, его хозяйка. В школе были каникулы.
II
Настала середина самого жаркого месяца. Лето, пыль, мошкара, жажда неслись стремительным галопом.
Они пришли из соседнего села и вместе с местными жителями отправились в следующее. Так, звено за звеном, создавалась цепь.
Он лежал на кровати и ни о чем не подозревал. Было три часа дня, время тяжелого послеобеденного сна. Он слышал Звон москитов над баком с водой и знал, что они блестят на солнце, точно туча посеребренной пыли. Тогда‑то до него и донеслись первые крики. З атем воцарилась тишина. Он лежал неподвижно, всеми порами своего тела ощущая жару. Его собственные ноги, длинные, волосатые, белые, вызывали в нем отвращение. Тело было вялым и потным, как у тех, кто боится солнца. Солнце, безжалостно льющееся сейчас на камни, внушало ему ужас. Он слышал беспорядочный топот копыт и мычание быков, бегущих вверх по улице. Что‑то случилось. Он быстро натянул брюки и босиком вышел в соседнюю комнату. Мариана только что вымыла пол, и его ступни, словно промокашка, оставляли сухие следы на красных плитах. Окно было закрыто старыми зелеными жалюзи, которые он сам купил и велел повесить, чтобы спрятаться от ненавистного ему света. Сквозь щели проникали слепящие солнечные лучи, они жгли, как огонь, как негашеная известь, их сияние разило насмерть. Он закрыл лицо ладонями, провел пальцами по дряблым заросшим щекам, глубоким впадинам у глаз и векам. От солнца у него кружилась голова: он ощущал его кончиками пальцев, чувствовал, как оно проникает в каждую его клеточку. Лоб, руки, шея покрылись потом. Брюки прилипли к телу. Мычания быков уже не было слышно. Доносились только чьи‑то осторожные шаги. Вдруг под самым окном раздался пронзительный крик:
— Бедная я, бедная, несчастная!..
Он быстро поднял жалюзи. Это было как сон. Вернее, как пробуждение от долгого, странного сна. Солнце ослепило его. Он скорее угадал, чем увидел жену алькальда, бегущую вниз по улице, и тут же вспомнил про газету, которую утром давал ему хозяин таверны. Он ощущал какую‑то пустоту в душе и весь превратился в ожидание.
— Мариана, — тихо позвал он. И тут же увидел ее. Она Забилась в угол от страха, лицо ее было белее полотна.
— Началась… — сказала Мариана.
— Что? Что началась?
— Революция…
— А почему кричит эта женщина? Что с ней?
— Ищут ее мужа… Они с серпами…
— Ах, эта каналья спряталась?
Почему он обругал алькальда? Его вдруг захлестнула злоба. Хотелось мычать так же, как мычали быки — покорные, тощие, черные, блестящие быки, бодавшие низкое вечернее небо. Он точно проснулся на этой грязной земле, на этом огромном, развороченном ложе, как на своей грязной кровати. Он даже не заметил, как изменился, как превратился в тряпку, подобно истлевшему галстуку, привязанному к прутьям кровати. Он менялся постепенно, с того дня, как приехал сюда, хорошо причесанный, в модных ботиночках. Он бегал из одного конца селения в другой, пытаясь объяснить, что земля вечный спутник солнца, а не наоборот, что она круглая, чуть приплюснутая на полюсах, что наша планета всего — навсего ничтожная пылинка, бессмысленно носящаяся вокруг других таких же пылинок, точно посеребренные москиты вокруг бака с водой; что так же, как поток воды представляется нам сцеплением бесчисленных капель, мы сами представляем: собой множество мельчайших частиц и что весь мир — это оргия пыли и огня. И, конечно, математику… И физику…
Взрослые, дети, собаки — все вызывало в нем когда‑то со страдание. Теперь же он не испытывал его даже к себе. Ему было на все наплевать. Он уже не слышал мычания быков. Не за один день, а день за днем менялось его сердце. По капле уходили честолюбие, надежды, бескорыстие, жажда знаний, любовь наконец. Неужели когда‑то он был тем мальчиком, который на цыпочках входил в библиотеку Великой Благодетельницы, чтобы попросить «Beau Geste»? Что за красивые жесты? (Он был умен, прилежен, и Великая Благодетельница оплачивала его занятия. Она оплачивала его занятия, но скупилась на башмаки, еду, одежду; ограничивала его в развлечениях, досуге, сне, любви.) А потом… Потом не было. Жизнь — это затянувшаяся секунда, которая заключает в себе великое пресыщение; время — всего лишь скопление пустоты и безмолвия, а плечи юношей — слабые, точно крылья выпавшего из гнезда птенца, — не могут вынести ни житейских тягот, ни голода, ни одиночества, ни долгой жизни, тяжелой ношей взваленной на них.
Читать дальше